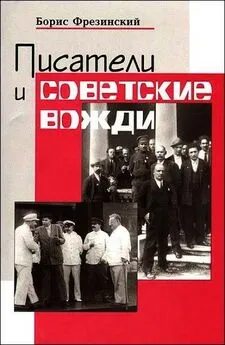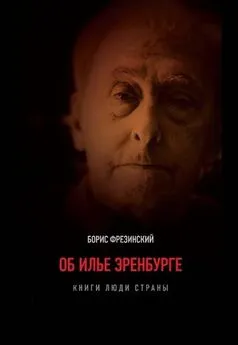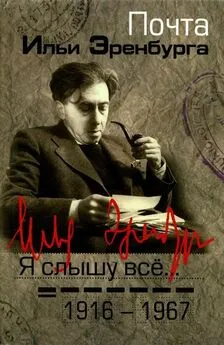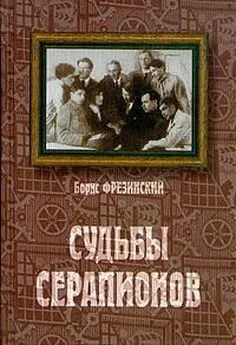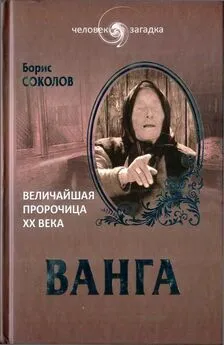Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век
- Название:Мозаика еврейских судеб. XX век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9953-0009-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век краткое содержание
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Мозаика еврейских судеб. XX век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда Натан Альтман в конце 1912 года приехал в Петербург, он еще не знал, что в этом городе пройдет половина его жизни.
Как и в Париже, в Петербурге Альтман застал схватку двух направлений в живописи — «Мира искусства», утвердившегося в качестве законодателя художественной моды, и «Союза молодежи» (футуристов Филонова, Бурлюков, Розановой, Малевича), которому стилизаторство Бенуа и Сомова казалось таким же прошлым, как эстетика передвижничества — мирискусникам.
В Петербурге, как и в Париже, Альтман не примкнул ни к одному направлению — он выставлялся у тех и у других, выглядя откровенно левым у мирискусников и несомненным консерватором в «Союзе молодежи».
Абрам Эфрос в превосходном «Портрете Натана Альтмана» (Москва, 1922 год) сохранил для нас эффект появления художника на невских берегах зимой 1912 года: «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники заметили, что их число стало на единицу больше. Альтман не шумел, не кричал: „Я! Я!“, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо, может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой… Он сделал это с такой безупречной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место». В Петербурге Альтман сразу же стал несомненно петербургским художником.
Он занимался не только живописью: возобновил начатые в Париже занятия скульптурой и много рисовал. (После Парижа в Виннице он издал альбом своих шаржей.) Графика петербургского периода — это не только рисунки, вошедшие в его альбом «Еврейская графика», но и масса шаржей — их печатал «Сатирикон», а модели поставлял подвал «Бродячая собака», где Альтман с удовольствием проводил время.
В «Бродячей собаке» Альтман встретился с Анной Ахматовой — так возобновилось их мимолетное парижское знакомство. Эта встреча дала художнику дивную модель, поэту — новые строки, а русской живописи — одну из самых чарующих ее жемчужин.
Альтман снимал тогда мансарду на Мытнинской набережной, 5, в большом семиэтажном доме, принадлежавшем Матвею и Федору Кириковым. Меблированные комнаты назывались «Княжий двор» (уже давно там помещается университетское общежитие, знаменитая «Мытня»).
Ахматова и Гумилев в ту пору снимали жилье в доме 17 по Тучкову переулку; в его створе оказываются и Тучков мост, и Мытнинская набережная. Анна Андреевна ежеутренне приходила позировать Альтману в мансарду «Княжьего двора» (название меблирашек она потом забыла и звала их «Нью-Йорк», но в стихах все точно:
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.
Это — «Эпические мотивы», они писались в 1914–1916 годы).
А через четыре года в живописи Натана Альтмана произошли бросающиеся в глаза перемены — Альтман «полевел» вместе со временем. Его беспредметные (и предметные) плоскостные композиции пореволюционных лет — визитная карточка той эпохи, когда левые художники, принявшие революцию, получили годы свободы и создали то, что во всем мире зовется «советским авангардом». Это единственная мирового значения страница искусства советской эпохи, страница, которую вырубили, как только до этого дошли руки, — на то она и революция, чтобы пожирать своих детей.
А еще были служба в Петроградской коллегии по делам искусств, профессорство в Свободных художественных мастерских, дружба и совместная работа с Маяковским, Луниным, Хлебниковым, Мандельштамом, с художниками Штеренбергом, Лебедевым, Бруни, Тырсой, Анненковым. И поездки в Москву, в Наркомпрос по делам Питера (Василий Кандинский писал в 1920 году Александру Родченко: «Альтман очень просит Вас прийти сегодня на Волхонку в 11 часов. Потом там будет Штеренберг. Все по поводу выделения картин для Петербурга»).
Ветер революции давно стал бранным выражением, и на Блока 1918 года смотрят как на помешанного… Сегодняшние межеумки кривят рот, глядя на рисунки, сделанные Альтманом в 1920 году в Кремле (Б. М. Кустодиев, кстати сказать, усматривал в них тогда «некоторый уклон в сторону шаржа»), а ведь, поди, никто не упрекнет Юрия Анненкова за папку графических портретов вождей Октября — еще бы, у Анненкова алиби: он циник и эмигрант…
Есть люди, от которых на каждом повороте истории остается грязь. Натан Альтман оставил нам холсты, излучающие свет.
В 1928 году Альтман снова приехал в Париж. На сей раз с Московским еврейским театром Грановского. Но когда театр вернулся в Москву, Альтман остался в Париже. У него был статус гражданина СССР, он посылал свои работы на советские выставки, но как художник и человек был свободен.
Это продолжалось 8 лет — зенит жизни. Альтман много писал маслом, оформлял книги, много гулял, бражничал, любил красивых женщин. Воздух Парижа снова вошел в него.
Монпарнас успел уже забыть о кубизме, и, как говорят, «даже Пикассо всматривался в Энгра». Альтман в очередной и, как оказалось, в последний раз обрел новую живописную манеру — ушли рациональность и геометрия, он сам назвал это «отходом от абстракции к живому человеку».
В 1929 году Альтману удалось устроить французскую визу балерине театра Грановского Ирине Петровне Дега, которую годом раньше он прославил волшебным портретом. Теперь они могли жить в Париже. Ирина Петровна была очаровательной, веселой, легкой, деятельной, и, конечно, это была золотая модель для художника. В начале 1980-х годов в Москве и в Питере я много расспрашивал ее о парижской жизни тех лет.
Альтманы сняли квартиру далеко от центра — на бульваре Брюн, 21, в районе фортов Порт де Ванв. Это был только что выстроенный восьмиэтажный дом со всеми удобствами (редкость в тогдашнем Париже).
Под Альтманами жили Савичи — друзья Ильи Эренбурга, и, заслышав голос Ильи Григорьевича, Альтманы устремлялись вниз, причем Ирина Петровна лихо съезжала по перилам.
Вскоре грянул экономический кризис, и картины перестали покупать. В это трудное время Ирина Петровна много работала, чтобы дать Альтману возможность заниматься живописью. Успех пришел к нему не сразу (Фальк писал об этом из Парижа сыну в Москву), но пришел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: