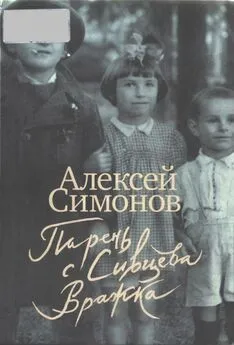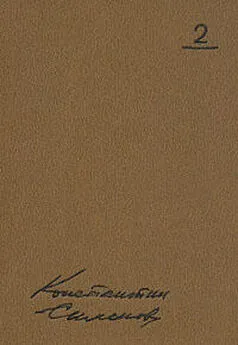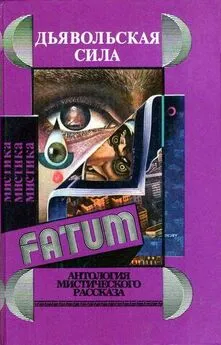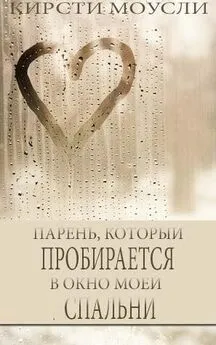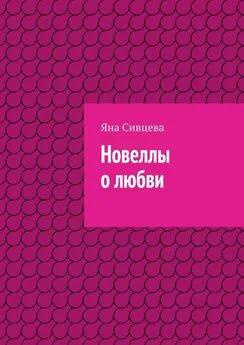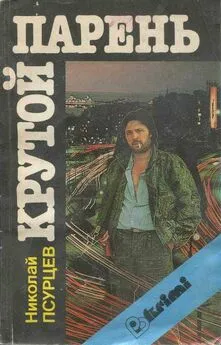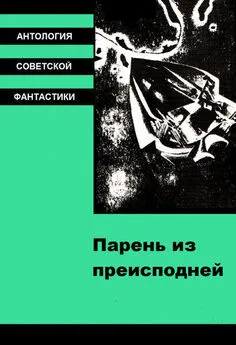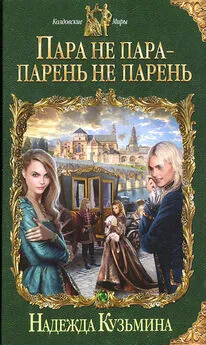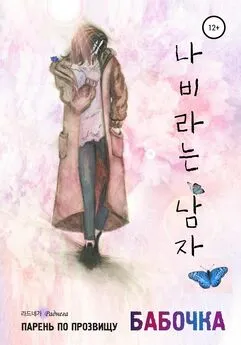Алексей Симонов - Парень с Сивцева Вражка
- Название:Парень с Сивцева Вражка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новая газета
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91147-009-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Симонов - Парень с Сивцева Вражка краткое содержание
Это история семьи на фоне XX века, изложенная в воспоминаниях, размышлениях, письмах, архивных документах, трудовых книжках и справках о реабилитации.
Если в первой части «Отдаю долги» рассказывается о том, как формируются в семье принципы общения с внешним миром, то во второй — «Круги по воде» — автор описывает, как эти принципы действуют в житейской практике.
Пунктиром через все перипетии этой истории проходит судьба Симоновых — деда, отца, внука, рассказывается о том, почему они — Симоновы и как главный из них стал Константином вместо Кирилла.
Парень с Сивцева Вражка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое ощущение, что кто-то из хозяев, а было их всего двое, пил от другого тайком, наспех, старясь добраться до содержимого как можно скорее. Какая-то большая беда, или — мягче — неблагополучие в доме, стояло за этим кладбищем бутылок.
Но это все куда более поздние соображения, а тогда сдача бутылок была занятием доходным и весьма актуальным. Посему, взяв таз с водой и прочную бечевку, я, пользуясь неизреченным сочувствием окружающих, принялся извлекать пробки из бутылок, мыть бутылки и ставить их на солнышко сушиться. К концу дня, нагрузив найденные Акимовной две здоровые сумки, я прицеплял их на руль велосипеда и вел этот велосипед на станцию, в Переделкино, где имелся пункт приема стеклопосуды. Ехать не мог — коленям мешали слишком большие сумки.
За три имевшихся в моем распоряжении дня, я мало истощил имевшийся в будке запас, но каждый день привозил домой полную четвертинку, которую мы втроем и распивали. Остальными деньгами я честно делился с Костей, а Акимовна свою долю не брала, ограничиваясь участием в распитии четвертинки — не смела она посягнуть на хозяйское добро. Подозреваю, что это и был мой первый честно заработанный рубль.
Не знаю почему, но и эту историю я никому не рассказывал, может быть, подспудно ощущая ее неявный смысл, ставший очевидным мне много позже.
Алинька

Княжна А. Л. Оболенская — воспитанница Смольного института благородных девиц
Первое живое воспоминание о бабке Але — шестилетнее. А может, мне уже семь, хотя вряд ли — я, по-моему, еще не хожу в школу. Почему-то мы остались с ней вдвоем на Сивцевом Вражке. И почему-то вместо сахара она в варящийся в кастрюльке кофе насыпает полную пригоршню соли — кофе мгновенно выкипает, обжигая Алиньке руку и тут… Тут я должен признаться, что любые мои воспоминания о живой Алиньке связаны с внутренней неловкостью, не сегодняшней, а тогдашней. Так вот, бабка без малейших колебаний тащит меня в туалет и, спустив с меня штанишки, требует, чтобы я пописал на обожженное место, потому что, как по ходу дела объясняет мне Алинька, лучшее лекарство от ожога — это детская моча. Эта новость и еще более неожиданное ее поведение вводят меня в ступор, и ждать моей струйки приходится нестерпимо долго.
Второе из первых воспоминаний — Дубулты, Рижское взморье, 1948 год — первое мое лечебное лето. Алиньке 58 — она стройна, с незапамятных для меня времен седовласа и похожа на прибалтийскую даму, что часто служит причиной мелких недоразумений. Для их разрешения бабка выучила по-латышски «не понимаю», что, если память мне не изменяет, звучит как «несо прут». Для удобства запоминания моя лингвистически одаренная бабка переделала это латышское «не понимаю» в русское «не сопрут».
И вот мы выходим с территории литфондовского Дома творчества в сторону, противоположную взморью, и оказываемся в прекрасном сосновом лесу. Тут к нам подходит красивый латышский старик и без тени сомнений обращается к бабке на прекрасном латышском языке.
«Не украдут», — с достоинством отвечает бабка. По лицу старика пробегает тень недоумения.
«Не стырят», — с тем же апломбом объясняет ему бабка Аля.
Старик делает попытку отступить.
«Ну, как это по-вашему, — не слямзят…»
Старик готов удариться в бега.
«…Не сбондят…» — удивительное для выпускницы Смольного института благородных девиц богатство русского языка.
«…Не свистнут… — и уже вслед скоро семенящему от нее латышу: …Ох, ну, не сопрут, не сопрут!»
Примерно тогда же бабкины записи фиксируют первые проявления моей наследственной гениальности. Среди ее бумаг мною найдено первое мое стихотворение:
Алинька, милая и дорогая,
Вышла она из цветущего рая.
Ангела хочет создать из меня,
Но нам обоим дорога трудна.
С припиской: «Первый поэтический опыт. Алексей серьезен и, видимо, талантлив». Что из приведенных строк абсолютно не следует и, на мой сегодняшний взгляд, даже не предполагается.
Еще один эпизод, но на этот раз не из памяти, а из семейных легенд, хотя по времени он восходит примерно к тем же 1946–1947 годам. В Ленинград поехала группа высокопоставленных деятелей культуры, чтобы оценить ущерб, нанесенный городу блокадой и обстрелами. Был включен в эту группу и отец. И поскольку общение со своей мамой всегда стояло для него отдельной строкой во временном его, очень, особенно в те годы, плотном расписании, и всегда было «проблемой», он решил воспользоваться этой командировкой и взял мать с собой.
И вот идет эта высокопоставленная команда по коридорам Смольного и с важным видом поворачивает головы в соответствии с призывом сопровождающих лиц то вправо, то влево и, соответственно, то охает, то вздыхает. Алинька держится от группы на вежливой дистанции, но внезапно церемонную процедуру нарушает ее громкий голос: «Кирюша! Ну посмотри же сюда, здесь был мой дортуар!»
Надо добавить, что раз написав отцу:
Константина не желала,
Константина не рожала,
Константина не люблю
И в семье не потерплю…
…Она всю оставшуюся с 1939 года жизнь продолжала звать его Кириллом. А «дортуар» — это по-нашему спальня. Только и всего.
Вот теперь попробую сформулировать, что же вызывает в памяти чувство внутренней неловкости. Бабка Аля в любых жизненных обстоятельствах вела себя совершенно естественно, но… без учета и самих обстоятельств, и задействованных в этих обстоятельствах ролевых актеров. Актеров «кушать подано» она могла просто не замечать. Это могло быть почти незаметно, как во всех вышерассказанных эпизодах, но могло прозвучать и как вопиющая бестактность, совершенно ею не замечаемая. Как оперный певец с хорошо поставленным голосом вдруг пользуется этой «поставленностью» в быту, вызывая у окружающих ощущение фальши, к которой очень трудно привыкнуть до степени незамечаемости.
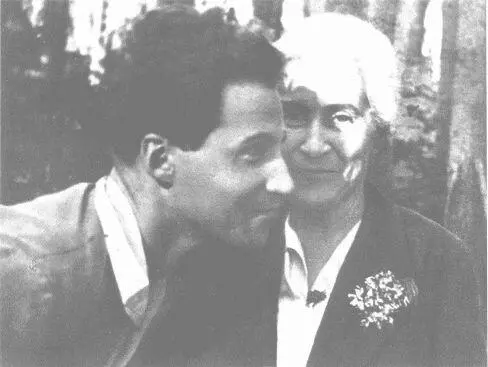
А. Л. Иванишева с сыном, еще Кириллом Симоновым, середина 30-х.
Я приведу здесь отрывок из бабкиного письма отцу, которое, как мне кажется, может этот феномен объяснить.
Октябрь 1943 года. Бабка Аля и деда Саша находятся в эвакуации, в Молотове. Поскольку мне еще не раз придется цитировать эпистолярии бабки Али, предуведомляю: все сокращения, в том числе и труднорасшифруемые — специфика бабкиного письма. В тетрадный лист или открытку Александра Леонидовна пыталась втиснуть столько слов, что писала сначала вдоль, потом на относительно свободных местах — поперек (низ страницы, место сгиба), а потом на белых образовавшихся пятачках — как придется, нумеруя эти «добавки», чтобы читающий уловил логику изложения. И все это почерком ученицы, имевшей за чистописание твердую пятерку — такое вот экзотическое сочетание, а может быть, привычка экономить бумагу. Впрочем, как вы увидите из письма, оснований для экзотических сочетаний в бабкиной жизни, характере и мировоззрении было вообще пруд пруди. А сокращения я буду, когда почту непонятными, расшифровывать в скобках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: