Евгений Шварц - Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя
- Название:Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978–5-17–077685–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шварц - Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя краткое содержание
Евгений Шварц — известный советский писатель, автор культовых пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо».
Дневники — особая часть творческого наследия Шварца. Писатель вел их почти с самого начала литературной деятельности. Воспоминания о детстве, юности, о создании нового театра, о днях блокады Ленинграда и годах эвакуации. Но, пожалуй, самое интересное — галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Николай Черкасов, Эраст Гарин, Янина Жеймо, Дмитрий Шостакович, Аркадий Райкин и многие-многие другие. О них Шварц рассказывает деликатно и язвительно, тепло и иронично, порой открывая известнейших людей тех лет с совершенно неожиданных сторон.
Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
10 августа
В то странное время я все видел и ощущал как бы приглушенно. Через пыль. Так что моя влюбленность переживалась ослабленно. Как бы сквозь сон. Я просыпался в те годы, но оцепенение сна еще владело мной. Я написал для кабаре «Карусель» первую свою пьеску под умышленно длинным названием «Три кита уголовного розыска, или Шерлок Холмс, Нат Пинкертон и Ник Картер». Пьеску эту лихо оформил Акимов, лихо поставил кто‑то, чуть ли не Вейсбрем, лихо разыграли актеры, их всех хвалили, а про меня и не вспомнил никто.
И я считал, что так и следует. Впрочем, так оно, вероятно, и было, — вряд ли эта пьеса чего‑нибудь стоила.
11 августа
«Умные речи и дурак поймет», как говорится. Не знаю, в этом ли разгадка, или зритель умнее, чем кажется? Если вывести его из рассосредоточенности, указать, куда смотреть, он все начинает понимать не хуже других, по — видимому. Едва появлялась на сцене Казико, зритель преображался. Однажды сидел я в зале во время спектакля, и кто‑то подшутил над фамилией — Казико. И тотчас же некий человек в визитке, с пробором, до сих пор не проявлявший признаков жизни, как и подобало пижону тех лет, вдруг с яростью обрушился на обидчика. Он кричал об уважении к актрисе. О том, что Казико — хорошая, старая казачья фамилия. О культуре и об искусстве. Спутники успокаивали его, а он ворчал: «Да нет, в самом деле. Обижают молодую талантливую артистку. Есть предел… некультурности». А играла Казико в какой‑то ничтожной пьеске — никак не могу ее вспомнить. Но такой победительной силой таланта и женственной прелести веяло от нее, что даже несокрушимые пижоны из уцелевших и те проникались почтением к артистке.
14 августа
И вот пришла война. Казико еще в 28–м, кажется, году вернулась в Ленинград, в Большой драматический театр. С огромным успехом выступила в «Разломе» [268]. И осталась в этом театре. И вместе с ним эвакуировалась в Киров областной, куда попали и мы. Большой драматический театр состоял из нескольких наслоений: монаховское, группа Дикого, и так далее, и прочее. Друг друга они настолько презирали, что даже и не ссорились. В Кирове утонули в бытовых делах с темпераментом, воистину актерским. А Казико держалась в стороне. Это время совпало с трудным для нее актерским ощущением; она теряла уверенность в себе. Молодость уходила. Театр, чтобы поднять сборы, поставил «Трактирщицу». Казико в Мирандолине успеха не имела. Что товарищи по работе отнесли целиком на ее вину, забыв о количестве репетиций и прочих обстоятельствах. Жила она в том же актерском доме, деревянном, двухэтажном, что и мы. Таскала во второй этаж дрова вязанками, стряпала, бегала на рынок.
15 августа
Есть ощущение, знакомое каждому. Ты погасил летом свет, думаешь уснуть, но мешает сухой шорох и сухие удары о стену. Это ночная бабочка мечется по комнате. Что тебе до ее горя? Но она бьется головой о стену, с непонятной для ее почти невесомого тельца силой. Ты зажигаешь свет. И она уходит к абажуру лампы под самым потолком, серая, короткокрылая. Может, это и не бабочка вовсе, а ты так и не удосужился за всю свою долгую жизнь спросить, как ее зовут. Если удастся тебе поймать ее, то так отчаянно бьется она о твои ладони и уходит так круто вниз, когда бросаешь ты ее за форточку, что так ты и не знаешь, отпустил ты ее на свободу или окончательно погубил. И некоторое время не оставляет тебя суховатое и сероватое, как само насекомое, ощущение неудачи — неведомо чьей и собственной твоей неумелости.
16 августа
Ничего Казико не имела общего с ночной бабочкой, которую я описал. Похоже было беспокойное чувство, возникавшее во мне, когда слышал я, как третьестепенные актеры ее бранили за то, что играет она недостаточно удивительно. Или когда замечал я вдруг, как много появилось седины в ее стриженых волосах. Каждая девчонка осуждала ее за то, что не умеет Казико следить за собой, полнеет. А с мужчинами несчастна, потому что отдает им себя полностью, не рассуждая. «Вот как оно, значит, было», — подумал я и представил себе то, что в те дни сметено было со света: спокойную крымскую ночь в степи, виноградники. При ближайшем знакомстве, да еще в эвакуации, Казико оказалась еще прелестней, чем представлялась. Лишена была бабьей цепкости и хитрости. Как она открылась, так и цвела. И несчитала, что мир обязан ей служить за это. И теперь начинала стареть с достоинством. Но чувство необъяснимое, но отчетливое не оставляло. Все то же чувство чьей‑то вины и собственной неумелости. Она не суетилась, не билась головой, но ощущение, что и она попала в какую‑то ловушку, появлялось. Иногда. Среди вятской грязи, безобразия, среди воровства чиновников и их высокомерия, под ежевечернее пение солдат: «Прощай, прощай, подруга дорогая» — трудно было задумываться над судьбой женщины, хотя бы и созданной из столь драгоценного материала. А главное, она не жаловалась. Вечерами в нашем театральном доме вечно гас свет, и Казико появлялась у нас в гостях. Впереди шагала маленькая ее дочка с фонарем в руках. Словно паж. И не горечь, а радость испытывал я, услышав столь доходящий до сердца, словно тронутый, чуть- чуть расколотый ее голос.
21 августа
Следующая фамилия — Кетлинская Вера Казимировна. Познакомились мы году в тридцатом, когда детский отдел Госиздата кончился и мы стали работниками «Молодой гвардии», если я не путаю. Время, во всяком случае, наступило новое. «Еж» реконструировался, и Кетлинская была назначена туда не то редактором, не то введена в редколлегию [269].
24 августа
В «Молодой гвардии» я с удивлением убедился, что молодежь, в отличие от школьного возраста детей, схватывается не на шутку. Такая склока стояла в «Молодой гвардии», что просто клочья летели. Ощущения сумасшедшего дома, которое поразило меня в школе, не было. Редактора схватывались и дрались на разумных основаниях. У каждого была своя идея. Как вести дело, уверенность и возрастное неумение уважать кого бы то ни было, кроме самых высоких личностей. Друг друга—το они уж во всяком случае не считали за людей. Кетлинской в подобных склоках доставалось особенно жестоко. Вероятно, несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца, бывшего царского адмирала, перешедшего в Красную Армию и убитого в Архангельске на улице. Убийца же скрылся. Когда я познакомился с Кетлинской, было общеизвестно, что убит адмирал белыми. Но вот дела Кетлинской ухудшались, склока обострялась. И на свет в чаду и пламени рождалась темная и неясная, но упорная история: отец Кетлинской убит красными. Почему воспитывалась она на счет государства, а мать получила пенсию и продолжала получать, несмотря на новую версию, — оставалось неясным. С Кетлинской в первые годы нашего знакомства отношения были благожелательно — равнодушные. Но мне скорее нравились последовательность ее поведения и бодрость — тоже вытекающие из цельности мировоззрения. Когда ушел я из «Молодой гвардии» в 31 году, то встречались мы от случая к случаю. Но все так же благожелательно. Как‑то я даже был у нее в гостях — в тот период, когда была она замужем за художником Кибриком. Жили они в надстройке, окнами на Перовскую.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


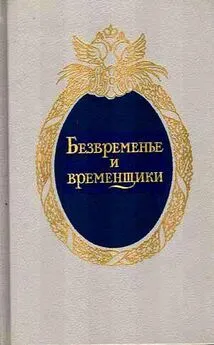
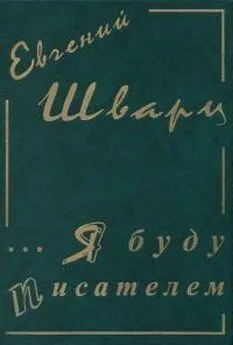
![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/1102195/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya.webp)

