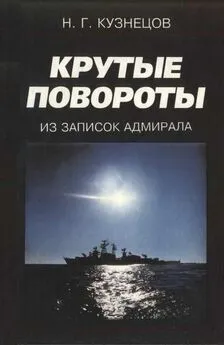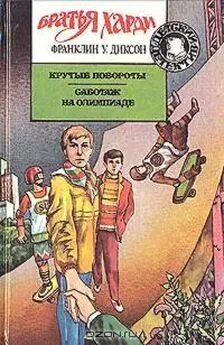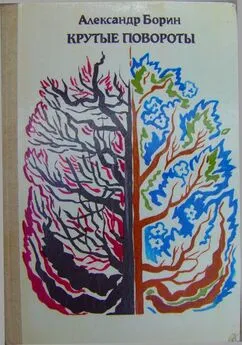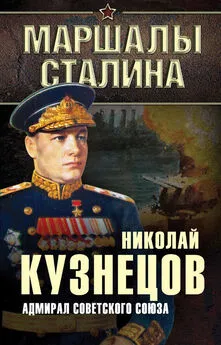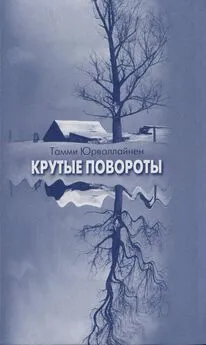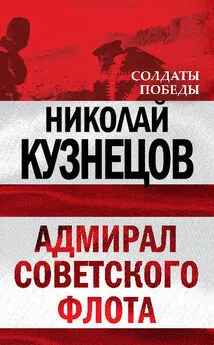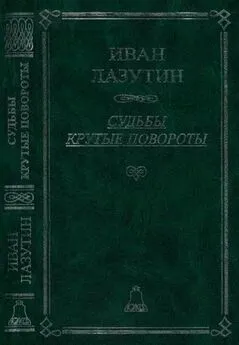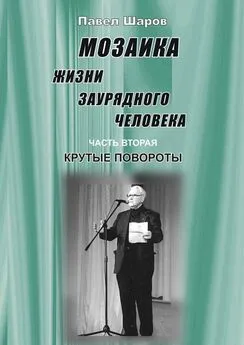Николай Кузнецов - Крутые повороты: Из записок адмирала
- Название:Крутые повороты: Из записок адмирала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02250-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Кузнецов - Крутые повороты: Из записок адмирала краткое содержание
Предлагаемая читателям книга составлена из сохранившихся в личном архиве и никогда ранее полностью не публиковавшихся записок Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза, наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова. Описываемые в ней события, относящиеся как к служебной деятельности выдающегося военачальника, так и к его работе в период отставки, позволяют узнать много нового о незаурядной личности единственного в советской истории военно-морского министра.
Издание иллюстрировано редкими фотографиями, дополнено интересными мемуарными материалами, снабжено подробными хронологическим и библиографическим указателями. Рассчитано на широкий круг читателей.
Крутые повороты: Из записок адмирала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По характеру сухой, редко улыбающийся и угрюмый человек, он даже при просмотре какой-нибудь кинокомедии в присутствии Сталина и гостей был официален и не допускал никаких «вольностей».
Одним словом, В.М. Молотов — прекрасный исполнитель воли Сталина, и, кажется, Сталин лучшего помощника иметь не мог. Однако в дни XIX съезда партии и позднее Молотов ушел в тень, и, под влиянием своего своеобразного окружения Сталин заподозрил его в попытке узурпации власти. Об этом он, помнится, достаточно ясно высказался на пленуме, состоявшемся после XIX съезда партии, ссылаясь на прочитанное им что-то из иностранных источников. Но то было уже в годы болезни Сталина. Тогда кое-кто раскладывал пасьянс на случай его скорого ухода «в лучший мир», а Сталин становился все более подозрительным.
У меня отложилось в памяти, как однажды, в 1952 году, вызванные к нему на ближнюю дачу, ехали члены Политбюро и я по флотским вопросам. Меня поразила тогда та темнота, в которую была погружена вся территория дачи. Зная в лицо прибывших, нас пропустили, но мы и дальше ехали по темным дорожкам, освещенным фарами машин. У подъезда стояли два низких столбика с синими фонарями. Рассказывали, что Сталин имел обыкновение иногда проверять, нет ли следов около забора. Ну, то, может быть, и пустая болтовня, но оснований к этому достаточно.
Я не могу не сказать несколько слов о знакомстве и моих отношениях с маршалом Жуковым. Это, бесспорно, талантливый полководец. О Жукове я попутно вспоминаю потому, что от него зависело много как в моей личной судьбе, так и в деле развития флота. Он не любил флот. На мое замечание о неудачных взаимоотношениях армии и флота он искренне ответил: «Это не имеет ровным счетом никакого значения». В этих словах весь Жуков по части его интересов к флоту. Я не отрицаю самых высоких его качеств как полководца, но по части флота имею сложившуюся точку зрения. Исторически мы знаем ряд примеров, когда талантливые полководцы не годились в начальники штабов или недооценивали роль флота. Так было с Наполеоном, Гинденбургом и другими.
Я познакомился с ним летом 1939 года. Он, кажется, прибыл в Москву сразу после столкновения с японцами у реки Халхин-Гол в Монголии. Там он командовал корпусом и играл важную роль во всей кампании, хотя официально всеми силами командовал командарм Г.М. Штерн, хорошо знакомый мне по Испании и Дальнему Востоку. Там мы были с ним соседями. Я командовал ТОФ, а Григорий Михайлович — 1-й Краснознаменной армией. На одном из совещаний в кабинете Сталина присутствовал и Г.К. Жуков, чувствовавший себя героем Халхин-Гола. Пожалуй, в те дни он и был назначен командующим Киевским Особым округом. Мимоходом мы встречались с ним в январе 1941 года, когда проходила большая оперативно-стратегическая игра. Моряки в ней активного участия не принимали, и я, бывая у наркома обороны маршала Тимошенко, раза два-три встречал в «кулуарах» различных военачальников, в том числе и Г.К. Жукова Фамилия его тогда уже частенько произносилась, поскольку он был одной из крупных фигур в Наркомате обороны, а в самом начале февраля я узнал о его назначении на должность начальника Генерального штаба. Говорили, что Мерецков неудачно сделал разбор игры и не понравился Сталину.
Наши отношения с первых встреч нельзя было назвать плохими (к этому не было оснований), но в то же время они не стали такими служебно-дружескими, какими мне хотелось бы их иметь для пользы более тесного взаимодействия двух военных наркоматов. Не берусь утверждать, откуда и кем были навеяны Жукову прохладные отношения к флоту и нежелание вникнуть более глубоко в наши морские дела. Ведь он, бесспорно, считал Генеральный штаб высшим оперативным органом всех Вооруженных Сил, что понимали и моряки. Мне думается, в то время сравнительно еще малочисленный по составу флот (пока не была реализована «большая программа») не вызывал особого интереса у Сталина на случай скорой войны, и это, видимо, слышал и знал Жуков. Кроме того, и среди других высоких военачальников не всегда было достаточное понимание роли флота, и мне самому приходилось не раз слышать критические замечания в адрес моряков. В кабинете Ворошилова известный Г.И. Кулик однажды высказал мнение, что «корабли никому не нужны». Я посмотрел на Ворошилова. Он промолчал, и у меня сложилось впечатление, что в душе он согласен с Куликом, но по своему Положению открыто это не высказывает.
На мнение Жукова о флоте, мне думается, наложило отпечаток его незнание кораблей и специфики флота. Мои попытки ближе познакомить Жукова с флотскими делами и тем самым вызвать у него интерес к этому виду Вооруженных Сил не увенчались успехом. Не получилось это и у И.С. Исакова. К сожалению, интерес к флоту у Жукова не проявился и в годы войны, о чем он сам пишет в своей книге «Воспоминания и размышления», хотя и объясняет это своей занятостью. Сколько раз мне приходилось слышать из уст Жукова иронические высказывания о флоте. Правда, он отдал должное морским бригадам, которые действовали под Москвой в 1941 году. Значительно позже, когда Жуков был уже в течение нескольких лет министром обороны, совершая поход на крейсере (кажется, в Албанию), он будто бы (находясь в жарком машинном отделении) сознался, что только теперь понимает трудность службы на кораблях. Но это были уже последние дни его пребывания в должности министра, а значит, и на кораблях.
Об этом не стоило бы вспоминать, если бы взгляды на флот руководителей Наркомата обороны не отражались на эффективности использования Военно-Морского Флота на случай войны. Для понимания специфики флота не требуется досконально знать морское дело. Моряки моего поколения хорошо помнят, как назначенный на пост наркомвоенмора М.В. Фрунзе в первое же лето отправился в длительное плавание на линкорах в южную часть Балтийского моря, внимательно присматривался к работе на кораблях и на разборе похода в Кронштадте отметил особенности высокотехничного флота и его потребности. «Мы еще не богаты, но скоро наступит время, и флот получит все, что нам нужно для обороны морских границ», — таков был смысл его выступления.
Перед войной я несколько раз встречался с Жуковым. Ряд документов или телеграмм нами подписан совместно. Но в одном у него были неправильные, по моему глубокому убеждению, взгляды — это в вопросах взаимодействия. Я стоял на позициях единства командования в таких пунктах, как Либава или Моонзундский архипелаг, не настаивая, что старшим должен быть обязательно моряк. Г.К. Жуков во всех случаях, с одной стороны, признавал старшинство только сухопутного начальника, а с другой — не хотел возлагать на него всю ответственность. Благодаря этому с началом войны в Либаве было два, по существу, независимых начальника: командир 67-й стрелковой дивизии Н.А. Дедаев и командир базы М.С. Клевенский. Как пример. Уже с началом войны Жуков в своей телеграмме давал указания, что на островах Эзель и Даго старшим является сухопутный начальник, а командующий флотом распоряжается только береговой обороной. Но, как было очевидно и до войны, сила Моонзундского архипелага заключалась именно в умелом и наиболее эффективном использовании всех средств обороны: сухопутных частей, береговой обороны, авиации и, когда потребуется, кораблей. Кто же мог лучше всего организовать взаимодействие, как не командующий флотом? Опыт вскоре заставил так и сделать, но время — дорогое время! — было потеряно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: