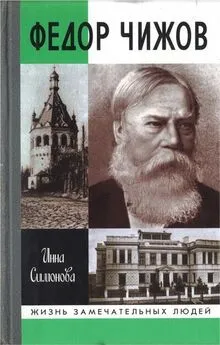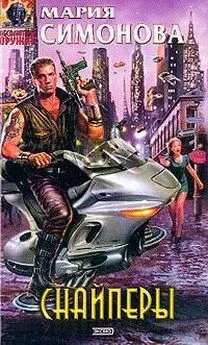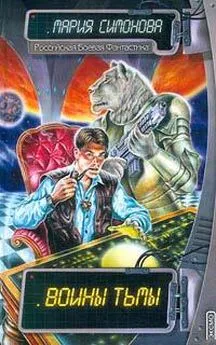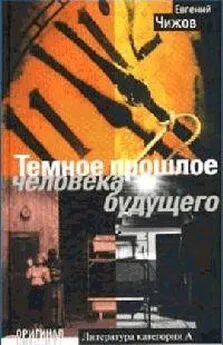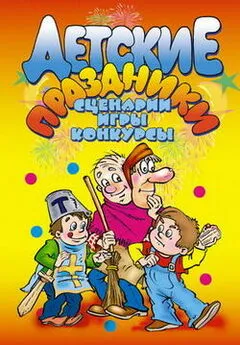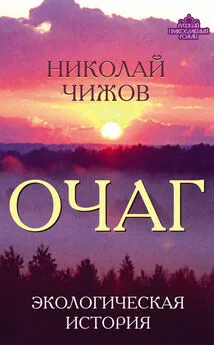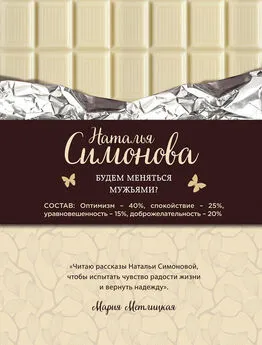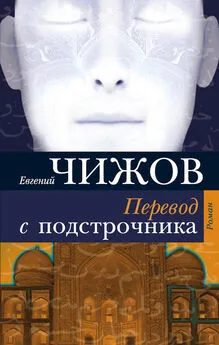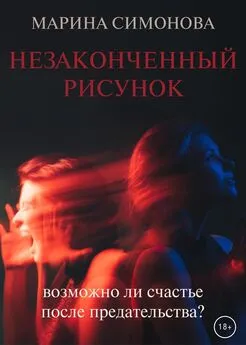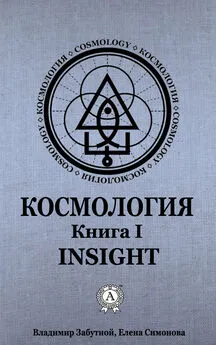Инна Симонова - Федор Чижов
- Название:Федор Чижов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02478-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Симонова - Федор Чижов краткое содержание
Федор Васильевич Чижов — крупный промышленник и финансист, строитель русских железных дорог и организатор московского купеческого сообщества, но вместе с тем и талантливый публицист, издатель, ученый-математик, искусствовед и щедрый меценат.
Предлагаемая книга — это первое обширное исследование и жизнеописание одной из самых колоритных и замечательных фигур русской общественной, экономической и культурной жизни.
Федор Чижов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На призыв Печерина откликнулся Н. П. Огарев; желанию Печерина «вернуться в народ русский» он поверил безоговорочно. «Ваше место среди людей „Земли и воли“», — уверял Огарев Печерина и при этом указывал на Литву как на возможную для него в качестве католического священника арену революционной деятельности [596] Письмо от 29. II. 1863 // Там же. С. 478, 482.
.
Однако Печерин предложения не принял; свое «возвращение в русский народ» он понимал отнюдь не в буквальном, действенном смысле. Жизненные катаклизмы сделали из когда-то восторженного радикала — скептика; «…после стольких опытов мне очень трудно решиться на какую-либо новую деятельность. Я чрезвычайно дорожу моим теперешним положением: я живу в совершенном уединении и совершенной независимости» [597] Письмо к Н. П. Огареву от 6. IV. 1863 // Там же. С. 483; Ср.: Письмо к Ф. В. Чижову от 21. X. 1865. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 11. Л. 6.
.
Спустя четыре с небольшим месяца, в августе 1863 года, на страницах «Московских ведомостей» разгорелась полемика между М. Н. Катковым и М. П. Погодиным, до которых дошли слухи о разрыве Печерина с католическим монастырем: они всерьез обсуждали вопрос о возможном благотворном прорусском влиянии Печерина на польское католическое духовенство в восстании 1863 года [598] Московские ведомости. 1863. № 163, 174.
. Негодующий ответ Печерина был опубликован в брюссельском «Листке» князя Петра Долгорукова: «Издатель „Московских ведомостей“ [599] М. Н. Катков.
желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет… Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют… Я никогда не думал, что католическая религия, в какой бы то ни было стране, должна служить опорой самодержавию и помогать Нерону казнить строптивых христиан… Если вследствие какого-нибудь переворота врата отечества отверзнутся передо мною — я заблаговременно объявлю, что присоединяюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя свободы совести и Земского Собора!» [600] Цит. по: Гершензон М. О. История молодой России. С. 163, 165.
Интерес к переменам, происходившим в России в период общественного обновления, требовал информации «из первых рук». Таковыми для Печерина могли стать свидетельства его прежних друзей. Случайно увиденные на страницах славянофильской газеты «День» корреспонденции Чижова заставили Печерина в августе 1865 года прислать в редакцию письмо, к которому была приложена длинная стихотворная исповедь «блудного сына России».
«Милостивый государь, — обращался к И. С. Аксакову, редактору „Дня“, Печерин. — Благородный дух вашего журнала давно привлекает мое внимание… Сверх того, там часто встречается дорогое для меня имя Ф. В. Чижова… Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук…» [601] День. 1865. 2.IX. № 29.
Аксаков понял смысл письма по-своему, как желание Печерина возвратиться в Россию. «Он наш, наш, наш! — убеждал Аксаков читателей в своем редакторском предисловии к публикации письма. — Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?.. Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины, она с любовью раскроет и примет в объятия своего заблудшего сына!» [602] Там же.
Но не этого искал Печерин. Ему хотелось, не меняя на склоне лет привычного уклада жизни, получить возможность общаться с другом-соотечественником, с которым его связывали общие юношеские воспоминания, который сам был свидетелем его несложившейся жизни и в какой-то степени принимал в ней участие. С ним он собирался обсудить волновавшие его вопросы общественной и политической жизни России и тем самым создать для себя иллюзию деятельного участия в новых процессах, происходивших на родине.
Еще до того, как послание из Дублина было опубликовано в газете «День», Чижов ознакомился с ним в редакции и откликнулся незамедлительно. Завязалась переписка, которая в течение последующих двенадцати лет утоляла ностальгическую тоску Печерина и постепенно становилась в его дублинском уединении главным жизненным интересом. Это был разговор двух собеседников о насущных проблемах России и событиях в мире в целом. «Письмо твое для меня важнее всех газет, — признавался Печерин Чижову, — оно показывает настоящее настроение умов в России…» [603] Письмо от 10.XII.1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 20. Л. 23.
Переписка Печерина и Чижова в 1860–1870-е годы, хранящаяся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки в Москве и Пушкинском доме Академии наук в Санкт-Петербурге, читается как захватывающий документ эпохи. В почти не пожелтевших от времени, исписанных мелким почерком разноцветных листках тончайшей почтовой бумаги оказались запечатленными образы и характеры этих двух столь непохожих людей, со своими пристрастиями, вкусами, взглядами и убеждениями. Невероятно, но, несмотря на порой непримиримые, принципиальные идейные разногласия, Печерин и Чижов тянулись друг к другу, были друг другу необходимы.
Отношение Печерина к славянофильским убеждениям Чижова выразительно раскрывается в одном из его первых писем к вновь объявившемуся другу. Печерин решительно отмел очередную попытку Чижова обратить его в свою веру: «Я чрезвычайно уважаю твой патриотизм, но, признаюсь, никак не могу следовать за тобою в твоем идолопоклонстве русскому народу… Хотите ли, не хотите ли, а Россия пойдет своим путем, то есть путем всемирного человеческого развития. Вы говорите, что здесь на Западе все мишура, а у вас одно чистое золото. Да где же оно? скажите пожалуйста! В высшей ли администрации? в неподкупности ли судей? в добродетелях семейной жизни? в трезвости и грамотности народа? в науке? в искусстве? в промышленности?.. А! понимаю: это золото кроется где-то в темных рудниках допетровской России… Нет! господа, мы за вами не попятимся в средние века. Нет, нет! Я вечно останусь пантеистом! Мне надобно жить всемирною жизнью… я всех людей обнимаю как братьев, но ни за каким народом не признаю исключительного права называть себя сынами Божьими. Заключить себя в каком-нибудь уголку Белокаменной и проводить жизнь в восторженном созерцании каких-то доселе еще не открытых тайных прелестей древней Руси — это вовсе не по мне! Я скажу с Шиллером: „Столетие еще не созрело для моего идеала. Я живу согражданином будущих племен“» [604] Письмо от 16. XII. 1866. — Там же. Д. 11. Л. 7 об. — 8 об.
.
Интервал:
Закладка: