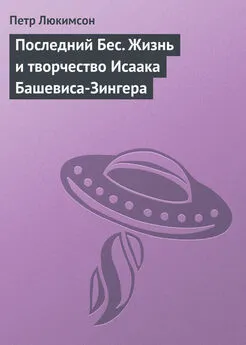Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
- Название:По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-704-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество) краткое содержание
Книга посвящена одному из самых парадоксальных поэтов России XX века — Борису Слуцкому. Он старался писать для просвещенных масс и просвещенной власти. В результате оказался в числе тех немногих, кому удалось обновить русский поэтический язык. Казавшийся суровым и всезнающим, Слуцкий был поэтом жалости и сочувствия. «Гипс на рану» — так называл его этику и эстетику Давид Самойлов. Солдат Великой Отечественной; литератор, в 1940–1950-х «широко известный в узких кругах», он стал первым певцом «оттепели». Его стихи пережили второе рождение в пору «перестройки» и до сих пор сохраняют свою свежесть и силу.
По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В отличие от Наровчатова и Самойлова, Слуцкий никогда не пытался представить себе, что случилось бы, если бы… В этом тоже была его верность тому, что Самойлов называл «довоенным вселенским утопизмом». Слуцкий не успокаивал и не раздражал себя аналогиями, он пытался взглянуть на окружающий его мир без оптических или каких бы то ни было иных фокусов. Никаких фантастических исторических допущений он не собирался делать, потому что, по его мнению, все то, что произошло в России и с Россией в XX веке, было и без того фантастично. Его уверенность в уникальности печального российского опыта потрясает.
О Наровчатове времен его чиновного восхождения, когда он стал главным редактором «Нового мира», Слуцкий писал с беспощадной откровенностью в стихотворении «Не за себя прошу» («Седой и толстый. Толстый и седой…»). Оно было опубликовано в книге «Сроки» в 1983 году:
В усы седые тщательно сопя,
он говорит: «Прошу не за себя!»
А собеседник мой, который тоже
неряшлив, краснолиц, и толст, и сед,
застенчиво до нервной дрожи
торопится в посольство на обед.
Ну что он снова пристает опять?
Что клянчит? Ну, ни совести, ни чести!
Назад тому лет тридцать, тридцать пять,
они, как пишут, начинали вместе.
Давно начало кончилось. Давно
конец дошел до полного расцвета.
— И как ему не надоест все это?
И как ему не станет все равно?
На солнце им обоим тяжело —
отказываться так же, как стараться,
а то, что было, то давно прошло
все то, что было, если разобраться.
Слуцкий и Самойлов остались верны поэзии. Впрочем, каждый из них пошел своим особым путем, о чем не без горечи говорит Самойлов в «Памятных записках»: «В трудные годы, когда ортодоксальные взгляды могли быть неверно и опасно истолкованы, мы держались друг друга. Литературное восхождение представлялось нам вроде альпинистского похода: один поднимается на очередной уступ и за веревку подтягивает остальных. Когда в середине пятидесятых годов началось бурное восхождение Слуцкого, альпинистская бечева оказалась для него помехой… Для зрелого писателя взлет — дело индивидуальное» [65] Давид Самойлов. Памятные записки. М.: Международные отношения, 1995. С. 13.
.
О том, что можно было бы назвать концепцией поэтического содружества, Самойлов писал: «…Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось. Но… оно было честным… Беда откровенного марксизма состояла в том, что он был явлением односторонним. Власть не признавала ни откровенности, ни марксизма» [66] Там же. С. 157, 160.
.
Наиболее готовым следовать концепции «содружества» был Слуцкий. Вернувшись с войны, он сказал Самойлову:
— Я хочу писать для умных секретарей обкомов.
Глава третья
ВОЙНА
Что значила война для Бориса Слуцкого? Чем она была для Слуцкого — гражданина, патриота, гуманиста, молодого человека своего поколения? Что она значила для Слуцкого — человека творческого? На этот вопрос однозначный ответ дал Илья Эренбург — война сделала его поэтом, война была его школой. Так же отвечал на вопрос и сам Слуцкий. В воспоминаниях «К истории моих стихотворений» Слуцкий был столь же категоричен: «При переезде с квартиры на квартиру мое имущество тогда <���начало пятидесятых годов> умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны» [67] Слуцкий Б. А. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 194.
.
Из всех вещей я знаю вещество
Войны. И больше ничего.
Или:
Вниз головой по гулкой мостовой
Вслед за собой война меня влачила
И выучила лишь себе самой,
А больше ничему не научила.
Итак, в моих ушах расчленена
Лишь надвое война и тишина —
На эти две — вся гамма мировая.
Полутонов я не воспринимаю.
Войну против фашизма Слуцкий, как и большинство его сверстников, считал не только главным делом поколения, но и персональным долгом каждого. В оценке человека, близкого к призывному возрасту, для Слуцкого много значило, был ли этот человек на фронте. К тем, кто отсиживался в тылу и без кого тыл мог бы обойтись, относился с подчеркнутым неодобрением:
— Где же вы были в годы войны?
Что же вы делали в эти годы?
Как вы использовали бронь и льготы,
Ах вы, сукины вы сыны!
В годы войны, когда в деревнях
Ни одного мужика не осталось,
Как вам елось, пилось, питалось?
Как вы использовали свой верняк?
В годы войны, когда отпусков
Фронтовикам не полагалось,
Вы входили без пропусков
В женскую жалость, боль и усталость…
Нередко этот взгляд на людей не воевавших доходил до крайности. Впрочем, с годами Слуцкий понял некоторую ущербность такого категоричного деления людей на «чистых» и «нечистых». Собственно, процитированное выше стихотворение о послевоенном скандале, о послевоенном озлоблении людей как раз и посвящено ущербности категоричного деления людей. Один из важнейших принципов этики и поэтики Слуцкого: audiatur et altera pars. «Послушаем же и другую сторону!» — принцип древнеримских юристов.
В любом стихотворении Слуцкого важен финал. В нем может зазвучать другой голос, и он разом перевернет все стихостроение, с ходу изменит его интонацию. Если бы Слуцкий смог оставаться юристом, он стал бы адвокатом. Чаще всего он оправдывает, а не обвиняет. Впускает в себя все голоса и жалобы, чтобы через него их расслышали взаимообвинители. Он недаром называл себя «горе-приемником».
В годы войны, а тех годов
было без небольшого четыре,
что же вы делали в теплой квартире?
Всех вас передушить готов!
Наша квартира была холодна.
Правда, мы там никогда не бывали.
Мы по цехам у станков ночевали.
Дорого нам доставалась война.
Этот подход к людям, адвокатский, не прокурорский, эта готовность расслышать чужую боль и правду, которые не менее убедительны, чем твои собственные, были главным военным приобретением Бориса Слуцкого. Его поэтический талант, сила мышления, безупречность нравственного чувства все равно сделали бы из него поэта; но вот стал бы он таким поэтом, каким стал, не будь войны, — это большой вопрос.
Годы, предшествовавшие Большой войне, совпали со временем созревания той поэтической поросли, которая войдет в историю литературы как «поэты военного поколения». И годы эти были наполнены событиями трагическими. Недавно прогремевшие процессы вырвали из рядов активных и опытных военачальников. Стычка на озере Хасан и Халхин-Гольское сражение выдвинули имена новых полководцев, но и из них немало погибло в застенках НКВД. События нарастали как снежный ком. Все лето 1939 года общество тревожили переговоры с военными делегациями западных держав. Англия и Франция наотрез отказались пропустить советские войска через Польшу и Чехословакию. Наша пропаганда трактовала этот отказ как желание направить немецкий клин на Восток, на СССР — и в этом конкретном случае пропаганда не сильно грешила против истины. Переговоры закончились провалом. И тут, как гром с ясного неба, появился Пакт Молотова — Риббентропа, по сути соглашение между Сталиным и Гитлером, казавшимися двумя непримиримыми идеологическими противниками. 1 августа 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Через семнадцать дней Красная армия перешла польскую границу. Мы присоединили Западную Украину, Западную Белоруссию, чуть позже Прибалтику. Началась советско-финская война; Красная армия понесла потери, несравнимые с масштабом войны. Война с финнами обнаружила серьезную неготовность Красной армии, низкую дисциплину, нарушения присяги, отсталость и нехватку вооружения. Вовсю шла война и на Западе, с ее неожиданными победами немцев. Страна нуждалась в передышке, в перевооружении и реформировании армии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: