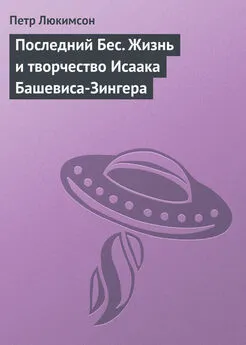Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
- Название:По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-704-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество) краткое содержание
Книга посвящена одному из самых парадоксальных поэтов России XX века — Борису Слуцкому. Он старался писать для просвещенных масс и просвещенной власти. В результате оказался в числе тех немногих, кому удалось обновить русский поэтический язык. Казавшийся суровым и всезнающим, Слуцкий был поэтом жалости и сочувствия. «Гипс на рану» — так называл его этику и эстетику Давид Самойлов. Солдат Великой Отечественной; литератор, в 1940–1950-х «широко известный в узких кругах», он стал первым певцом «оттепели». Его стихи пережили второе рождение в пору «перестройки» и до сих пор сохраняют свою свежесть и силу.
По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Написано это, судя по слову “оттепель” с его четкой временной меткой, позже. К четырем радиогодам относится полностью.
Я и к 70-летию Сталина сделал заказанную мне (или мне с Кузнецовым) композицию. Доверяли, значит, если заказали такую тему, по которой и материалов-то почти никаких, как выяснилось в ходе работы, не было. То есть о любви к Сталину материалов было предостаточно, а о предмете любви — почти ничего. В композиции (она своевременно прошла в эфир и принесла мне 1500–2000 рублей) было много про любовь и мало про Сталина.
Осенью 1952 года вызывают меня в райком. Третий секретарь — Прозорова. Лицо приятное, усталое. Сорокалетняя женщина, вроде директрисы средней московской школы.
— Как это вы столько лет не работаете? <���Как тут не вспомнить «борьбу с тунеядцами» в пятидесятые-шестидесятые годы, суд над И. Бродским. — П. Г., Н. Е. >
Посмотрел. У нее на столе — радиопрограмма. Говорю:
— Вот во вторник моя радиокомпозиция идет по первой программе. Фамилия там напечатана. А в субботу — радиоочерк.
Проверила. Отпустила.
Фамилию мою в радиопрограмме печатали редко — раза через три. А на этот раз так случилось. В одной программе — дважды.
.............................
Недавно, то есть лет через двадцать после всего вышеописанного, <���мне рассказывали> каким я казался тогда на радио: подтянутым, веселым, таинственным.
— Мы думали, что вы разведчик и скоро уедете за границу, а к нам приходите так, от делать нечего» [148] Слуцкий Б. А. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 181–186.
.
В эти годы Слуцкий жил скитальцем по комнатам и углам. Друзья как-то подсчитали, что за десять лет он сменил около двух десятков хозяев. О многих собирался написать. Но успел набросать небольшой (незавершенный) очерк об одном — Андрее Гаврилыче Чарском, сотруднике Моссовета, заведовавшем отделом крыш. «Однажды в пик откровенности и дружелюбия, — пишет Борис Слуцкий в этом очерке, — он открыл мне тайну, которую хранил двадцать лет. Улица, носящая сейчас имя Чехова, была, оказывается, уже однажды переименована — из Малой Дмитровки в улицу Шевченко — весной 1941 года, в шевченковскую годовщину. Таблички с Шевченко не успели повесить» [149] Там же. С. 245.
. В очерке великолепно описан удивительный быт московского послевоенного чиновника, в квартире которого, покуда жена с дочками отдыхают на даче, живут непечатающийся поэт, огромный дог и боящаяся этого дога мать квартировладельца, «одноногая старуха, приехавшая из деревни… Она едва ли не ползала, а полы мыла и впрямь ползком или попросту лежа плашмя. Не так уж много запомнилось из того лета у Чарских, не так уж много для прозы, но для сюрреального кино достаточно: мы с собакой, затворившиеся в разных комнатах, старуха, радостно ползающая по полу коридора, А. Г. со своей тайной» [150] Там же. С. 246.
.
Читая очерк, можно только пожалеть, что Слуцкий не завершил задуманную им серию зарисовок. О том, что такой замысел был, свидетельствует название первого очерка, «История моих квартировладельцев». Странным образом эти зарисовки напоминают довлатовские новеллы — из-за главного героя, бездомного люмпен-интеллигента. Но Слуцкий не хотел менять лирического героя. Бездомный интеллигент — персонаж, волей-неволей вызывающий жалость, а этого Слуцкий не хотел ни в коем случае. Он хотел казаться кем угодно (да хоть разведчиком, который скоро уедет за границу, а в Радиокомитет приходит так, от делать нечего), но только не тем, кого можно пожалеть.
Послевоенный период стал для Слуцкого очень тяжелыми годами сомнений, скитания и неустроенности. Ему было бы и вовсе скверно, если бы не его друзья, дома и семьи, где разделяли его чувства и предчувствия, где он мог найти сочувствие и тепло, — у Ильи Эренбурга, Лили Юрьевны Брик, Евгении Самойловны Ласкиной, Елены Ржевской, Рафесов, в доме родителей отбывавшего ссылку институтского товарища Зейды Фрейдина.
Глава пятая
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В пятидесятых годах столетья,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.
Не знали, что это и есть счастье…
По тому, как пятидесятые годы начинались, их можно было бы окрестить роковыми. 13 января арестовали врачей — «убийц в белых халатах». Но в целом, и исторически, и для судьбы лично Слуцкого, эти годы стали рубежными — смерть Сталина, освобождение врачей, XX съезд партии, развенчание культа личности, начало «оттепели», а для Слуцкого — выход к широкому читателю и признание, первая книга стихов, первая квартира, женитьба.
Конец десятилетия оказался для Слуцкого трагическим — вынужденное участие в пастернаковской эпопее.
Государственный антисемитизм и борьба с «безродными космополитами» достигли своего апогея. Подводная часть этого черного айсберга уходила глубоко в военные и послевоенные годы. Конец сороковых и начало пятидесятых годов Слуцкий обозначил как «глухой угол времени — моего личного и исторического». Вот что он писал об этом времени.
«До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два, но дело шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать должны были со мной и надо мной.
Повторяю: ничего особенного еще не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдет — скоро и неминуемо.
Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и людей моего круга не будет никакого» [151] Слуцкий Б. А. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 194.
.
Смерть Сталина означала конец эпохи, символом которой было понятие «Порядок», ассоциировавшееся у русского воевавшего (или не воевавшего, а побывавшего в оккупации) человека с гитлеровским «новым порядком». Слуцкий надеялся на то, что со смертью Сталина оборвется и рухнет установленный им порядок, как и тот, в «Тысячелетнем рейхе».
С утра вставали на работу.
Потом «Веселые ребята»
в кино смотрели. Был порядок.
Он был в породах и парадах,
и в органах, и в аппаратах,
в пародиях — и то порядок.
Над кем не надо — не смеялись,
ого положено — боялись.
Порядок был — большой порядок.
Порядок поротых и гнутых
в часах, секундах и минутах,
в годах — везде большой порядок.
Интервал:
Закладка: