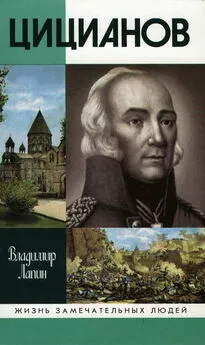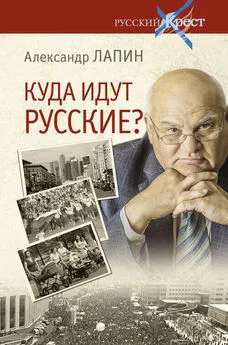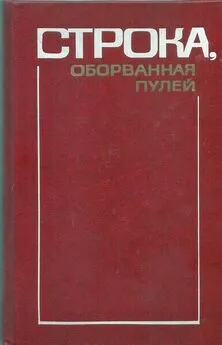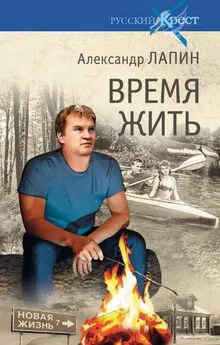Владимир Лапин - Цицианов
- Название:Цицианов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03484-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лапин - Цицианов краткое содержание
Генерал от инфантерии князь Павел Дмитриевич Цицианов (1754— 1806) принадлежит к числу тех, кого принято называть строителями Российской империи. Представитель древнего грузинского княжеского рода, он был горячим патриотом России и в буквальном смысле слова сложил голову, защищая интересы своего Отечества. Именно на его долю выпала реализация судьбоносного для двух стран манифеста императора Александра I о присоединении Грузии к России; ему же пришлось делать первые шаги в «умиротворении» Северного Кавказа и, одному из первых, осознать масштаб тех проблем, решение которых спустя несколько десятилетий после его гибели назвали Кавказской войной. О трагической судьбе князя П. Д. Цицианова и об истории вхождения Закавказья в состав Российской империи рассказывается в книге доктора исторических наук, специалиста по русской военной истории Владимира Викентьевича Лапина.
Цицианов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такова же была судьба и других его братьев. По делу сторонников царевича Парнаоза во время осады Эривани было арестовано 73 человека. Следственная комиссия, составленная из трех человек, начала работать 2 апреля 1805 года. Поскольку в целях сохранения секретности для оформления протоколов не использовались канцелярские служители, дела рассматривались очень медленно. Процесс носил откровенно политический характер, контроль над ним осуществлял сам Цицианов, который постоянно был в походах. Фактически следствие зашло в тупик, так как оказалось, что для допроса надо арестовать чуть ли не всех грузинских князей. Чтобы как-то разрядить ситуацию, всех подозреваемых разделили на три категории: 1) явные мятежники, находившиеся на службе и «старавшиеся» изменить; 2) захваченные с оружием в руках вместе с царевичами, но покинувшие их и арестованные уже в своих домах; 3) те, которые не приносили присяги и потому свободны от обвинений в ее нарушении. В конце концов дело пришлось, как говорится, спустить на тормозах, после того как «в политических видах» получили прощение царевичи Иулон, Парнаоз и один из самых активных заговорщиков князь Чавчавадзе. После этого вести следствие против рядовых участников возмущения было уже нелепо [335].
Лишив представителей грузинской царской фамилии права проживания в Грузии, Александр I и его наследники озаботились тем, чтобы Багратиды были материально обеспечены и «обласканы» чинами, высокими должностями и наградами. Губернаторам Тулы и Воронежа было предписано строго следить за сосланными туда царевичами Иулоном и Парнаозом: не стеснять их свободы, но не разрешать отлучаться из города, каждые две недели докладывать о поведении. На содержание «эмигрантов по принуждению» на первых порах выделялось по 300 рублей в месяц [336]. На эти деньги в российской провинции можно было жить если не по-царски, то уж точно по-барски. Затем царевичи могли проживать где угодно, кроме Грузии. В 1800 году царская семья насчитывала 66 человек, причем грузинский двор отнюдь не блистал роскошью [337]. До 1803 года члены царской фамилии получали доходы от своих уделов; после переезда в Россию эти доходы были заменены пенсионами. Сделано это было не столько для «удобства» царевичей, сколько для того, чтобы разорвать связь между ними и поместьями, в которых они являлись не только полновластными хозяевами, но и правителями. Материальная выгода царевичам была налицо: суммарный доход от недвижимости составлял около 35 тысяч рублей в год, а сумма пенсий — 91 тысячу рублей. Но оборотной стороной этой императорской щедрости стала жизнь вдали от родины. Чтобы «укоренить» царевичей и их потомков в России, по указу от 22 августа 1804 года Давиду Георгиевичу «как ближайшему к праву бывшего Грузинского наследства и опытами верности его к России известному» были выделены средства для приобретения двух тысяч крепостных. Его братья Вахтанг, Мириан, Иоанн, Баграт получали возможность купить по тысяче крепостных; Гавриил, Илья, Окропир, Ираклий — по 600 крепостных. Яростная противница России царица Дарья получала пенсион в 27 375 рублей, а убийца генерала Лазарева царица Мария — 13 790 рублей. По 10 тысяч рублей «подъемных» и средства на имение в тысячу душ получили даже укрывавшиеся до 1805 года в Персии Иулон, Теймураз и Парнаоз. В 1834 году в Россию приехала с сыном Ираклием Мария Исаакиевна — жена самого беспокойного царевича, Александра Ираклиевича, оставшегося в Персии. Несмотря на это, ей был устроен достойный прием. Мальчика определили в Александровский кадетский корпус, дали пенсион три тысячи рублей и 75 тысяч рублей на приобретение недвижимости. Солидные пенсии стали получать и подросшие внуки Ираклия II — Луарсаб и Дмитрий Иулонович. Чтобы царевичей не обманули продавцы имений, саму процедуру доверили специальным опытным комиссионерам и, несмотря на выдачу средств, продлили выплату пенсий на пять лет. Не были обижены и представители имеретинского царствующего дома — Анна Матвеевна (вдова царевича Дмитрия Георгиевича), царевич Константин Давидович. Обеспечили приличным содержанием даже супругу Соломона II Марию Кациевну, яростную противницу России. Ее, правда, сначала посадили под домашний арест в Воронеже, но вскоре освободили и купили ей дом в Москве, выплачивая пожизненно 24 тысячи рублей пенсии в год. Впрочем, несмотря на щедрые выплаты и патронаж, грузинские царевичи не преуспели в «водворении», выделенные им средства использовали нерационально, докучая при этом властям прошениями о дополнительных выплатах и льготах. Дело дошло до учреждения особой должности Главного грузинского пристава, которому поручалось вести дела потомков Ираклия II и Георгия XII. Специальная комиссия Министерства внутренних дел в 1837 году предложила отказаться от идеи сделать из царевичей успешных помещиков и установить им фиксированные пожизненные пенсии по 6 тысяч рублей в год. Следующее поколение (царские внуки) могло рассчитывать на половину этой суммы. При изучении вопроса комиссия суммировала все выплаты Багратионам с начала XIX столетия. Сумма получилась впечатляющая. Государственный совет счел мнение комиссии обоснованным и постановил «положить конец домогательствам и просьбам, которыми они (царевичи. — В.Л.) обременяли высшее правительство». И впоследствии, при упразднении владетельных домов Гурии (1829 год), Сванетии (1853 год), Мингрелии (1867 год), правительство не давало повода обвинить себя в скаредности. Ликвидация уделов Багратидов позволила восстановить справедливость в отношении ряда грузинских князей, лишенных по царскому произволу значительных населенных имений. Так, роду Эристовых была возвращена отобранная у них еще в 1777 году Ксанская волость. Несмотря на всю откровенную грузинофилию российского правительства и знаки внимания к членам фамилии Багратидов, в 1826 году сформировалось тайное общество, ставившее своей целью восстановление независимости Грузии и восстановление династии. В 1832 году заговор, у истоков которого стояли царевичи Окропир и Дмитрий, был раскрыт, причем наказание всем его родовитым участникам назначили очень мягкое, особенно на фоне того, что страна жила под впечатлением расправы над участниками восстания декабристов.
После удаления фамилии Багратионов из Грузии на плечи российского имперского правительства легла вся тяжесть управления этой страной и теми закавказскими «провинциями», которые включались в состав империи после 1801 года. Прежде всего требовалось выработать основные административные принципы.
Цицианов был сторонником жесткого стиля. В докладе на высочайшее имя от 13 февраля 1804 года он писал: «Природа, определившая азиатские народы к неограниченной единоначальной власти, оставила на них неизгладимую печать свою. Против необузданности и упорства нужны способы сильные и решительные. Кротость российского правления почитают они слабостью и разными пронырствами укрываются от гонения законов, хвастают ненаказанностью порока… Слово закон не имеет для них никакого смысла и что они стыдятся повиноваться капитан-исправнику родом и чином не знатному. Для них все ново, для нас все странно; недостаток переводчиков усугубляет затруднение; судья и проситель не понимают друг друга, и оба остаются недовольными» [338]. Он предложил занять пост губернатора Тучкову, а когда тот отказался под предлогом несклонности к гражданской службе, объяснил: «…Грузины — народ военный, и обстоятельства и положение сей земли требуют, чтоб управляющий оной был человек военный…» [339]В то же время Цицианов вовсе не полагался на одну грубую силу. Он осознавал важность символов. Так, например, в 1805 году он лично составил церемониал представления императорской грамоты о принятии в подданство Шекинского ханства. Возглавлять шествия должен был «один почетный бек, и за ним 50 человек татар и армян по 2 в ряд». Далее шел взвод солдат, потом — четыре офицера и за ними — главный русский воинский начальник в ханстве — майор Тифлисского мушкетерского полка Ребиндер. Саму грамоту нес батальонный адъютант, а замыкал кортеж взвод пехоты. На пути движения кортежа устанавливались «боковые патрули из егерей от средины на 20 шагов и друг за другом в 8 шагах». «Когда сей кортеж будет подходить за 50 сажен к Нухе, тогда из крепости холостыми картузами из всякого орудия сделать по 10 выстрелов для салютации весьма редко; на воротах города играть городской музыке на трубах и в литавры бить до тех пор, как войдет в диван-ханэ майор Ребиндер с грамотой». Грамота и рескрипт императора должны были публично зачитываться на русском и арабском языках, после чего документы торжественно вручались Селим-хану. Во всех мечетях города должны были совершиться пять молитв «за здравие Его императорского величества всемилостивейшего Государя Императора Александра Павловича и всего Императорского дома». После окончания церемонии кортеж в обратном порядке возвращался к месту расквартирования войск [340].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: