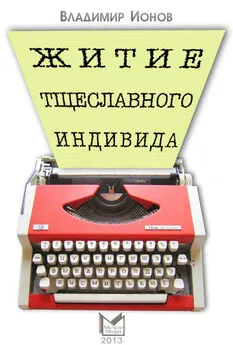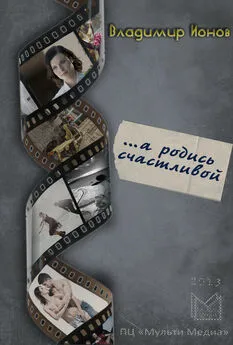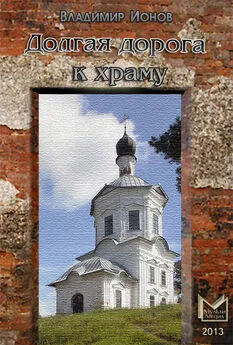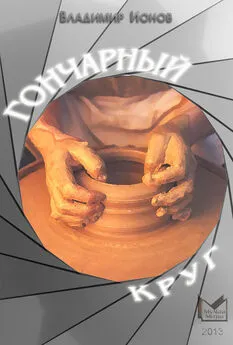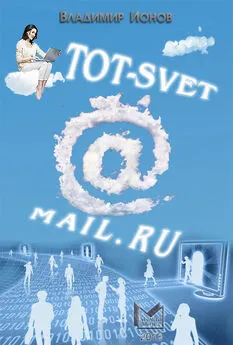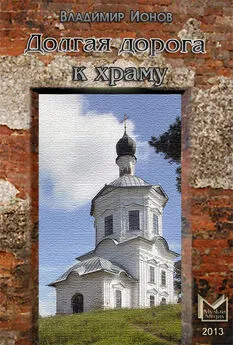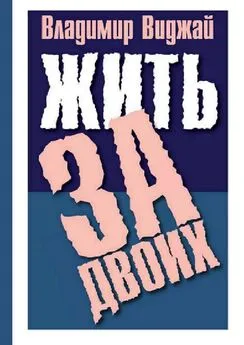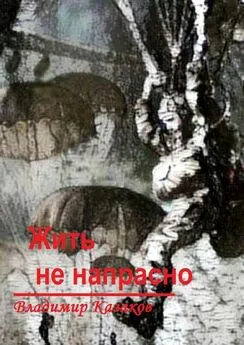Владимир Ионов - Житие тщеславного индивида
- Название:Житие тщеславного индивида
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ионов - Житие тщеславного индивида краткое содержание
Последняя книга известного в прошлом журналиста и писателя Владимира Ионова написана в жанре воспоминаний. Но автор называет её автобиографическим романом, оправдывая это широтой охвата описываемых событий в жизни страны и героя повествования. Книга населена большим количеством известных действующих лиц, с которыми довелось встречаться автору в его полувековой работе журналиста и писателя, дана им характеристика, нередко отличающаяся от общепринятой.
Житие тщеславного индивида - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А у меня и денег нет заплатить за угол. И на обратную дорогу билет купить не на что. Может, найдется какая-нибудь работа здесь?
С такого невеселого диалога началась новая жизнь, о которой так мечтал, уже и не мысля себя в каком-то ином качестве. Но в тот же день все и уладилось. Ночевать Яковенко устроил в комнате для сменных бригад локомотивного депо, обедать водил в вокзальный буфет, а о завтраках и ужинах речи пока не было.
Труднее оказалось другое – разница между рабкорством и профессиональной работой в газете. Раньше, бывало, когда вздумаешь, тогда и принесешь в редакцию опус, а теперь дай его к сроку, трижды в неделю и не абы что, а строго по плану. И приходилось едва ли ни каждый день гонять Принцессу в дальние углы района, а там спускаться в шахты, по лавам и штрекам искать «маяков» труда, чтобы вечером в жарко натопленной комнате сменных локомотивных бригад писать об их самоотверженной работе. И получалось. Втянулся. К тому же и приходящие на ночлег локомотивные бригады рассказывали, как им удалось провести по своему перегону рекордный по весу товарный состав. Успевал писать и про них. Словом, в первый же месяц заработал поощрение: Яковенко отдал мне своё приглашение на областное торжественное собрание, посвященное Дню печати.
Проходило оно во Дворце культуры города Шахты. Зал был набит битком, потому что в президиуме сидел сам Михаил Шолохов – редкая птица на журналистских собраниях. А он даже и выступал. И помню, не раз потом повторенное им умозаключение, что пишем мы не по велению партии, а по зову сердца, возле которого носим свой партийный билет.
Я быстро освоился и в поселке, даже полюбил его за громаду розового Дворца культуры, за прячущиеся за акациями бело-синие домики, за два голубых пивных ларька по краям перрона железнодорожной станции. К вечеру эти ларьки до крыши зарастали шелухой от раков, корзинами продававшихся на станции. Километрах в трех от нашего поселка протекала неширокая речка Персиановка, прямо кишевшая крупными раками, потому что рядом располагался какой-то НИИ, где, по рассказам, потрошили лошадей, а остатки сбрасывали в Персиановку. Вот раки там и расплодились в несметном количестве. Я мало знал про этот институт, потому что он относился уже к Ростовской области. Но раками под теплое, жиденькое пивко лакомился часто.
У одного из ларьков познакомился с любопытным стариком – Владимиром Николаевичем Немировичем-Данченко, каким-то дальним родственником знаменитого театрального деятеля. Он был выслан в Каменоломни за то, что какое-то время жил в оккупации и даже сотрудничал с немцами. После войны сидел за это, а потом отправлен подальше от Ростова-на Дону. Обитал Владимир Николаевич в редком для Каменоломней просторном бревенчатом доме, нигде официально не работал, жил, по его словам, творчеством. Однажды он пригласил меня послушать только что написанный рассказ. Помню, речь там шла о дирижере, исполнявшем увертюру Бетховена «Кориолан». Поразила экспрессия написанного и прочитанного. «Палочка вверх, палочка вниз!» – читал он, дрожащим от волнения голосом и махал рукой с листами бумаги так, что они разлетались, а он их ловил в воздухе и опять читал: «Судьба, тебе не согнуть меня! Палочка вверх, палочка вниз». Экспрессия рассказа была так сильна, что спустя годы, в первой своей повести «Впереди – огонь» я использовал тот же метод письма: «Солнце вверх, солнце вниз». И этот кусок текста был столь интересен, что Елена Лебедева, ныне актриса Нижегородского ТЮЗа, читала его при вступлении в театральное училище.
В это время из «Донецкой правды» уволили ответственного секретаря, и редактор Иван Дремлюга, издалека наблюдавший за моими успехами в районной газете, предложил стать «третьим лицом» в его редакции. Яковенко тяжко вздохнул, но особо возражать не стал, тем более, что за полгода работы у него, мне удалось сколотить небольшой актив из местных ребят. Так что было уже кому заменить седока для Принцессы.
Как говорят, «нищему собраться – только подпоясаться», и через пару дней я снова оказался в Донецке, где тоже проработал всего полгода.
Случилось так, что зам редактора Саша Санин уехал на зимнюю экзаменационную сессию, Дремлюгу тоже вызвали на какой-то семинар в Шахты, и выпуск газеты свалился на «третье лицо». Я же был беспартийным товарищем, и по сему «орган горкома партии» подписывать не имел права. Поручили это третьему секретарю горкома – фамилию не помню. В редакцию он не заходил, контролировал процесс по телефону. Один номер прошел без сучка и задоринки. На второй материалов у меня не хватало. Пришлось идти на перепечатки. Выбрал из какого-то «Сборника репертуара для советской эстрады» стихотворный фельетон «Дом, который построил трест». Это было переложение известной поэмы Бёрнса «Дом, который построил Джек», только приспособленное к советской действительности. Я углядел в фельетоне злобу дня, ибо в центре Донецка только что заселили чиновниками новую двухэтажку. Обещали в ней комнату и мне. Но не хватило. Набрал фельетон жирным петитом, и поместил на четвертой станице. Перед секретарем горкома отчитался по телефону нормально, газета вышла. А утром, узнавшие себя новоселы, подняли такой скандал, что в тот же день меня уволили из редакции, что называется, без выходного пособия. Куда податься? Назад к Яковенко? Да нет, если уж назад, то в Ярославль.
11. Испытания на прочность
Редактор «Северного рабочего» Иван Лопатин, просмотрев трудовую книжку, спросил:
– Ну что, нагулялся, дружок? И всего-то двадцать два года, а уже столько работ сменил. Летун? Ладно, попробуем. Пойдешь в одел писем литсотрудником. – Старый партийный назначенец, он и сам назначал, не спрашивая чьего-то мнения. А мне и возразить было нечем – только бы взяли. Да и рост есть: районка, городская газета, теперь – областная! Письма, так письма.
Отдел состоял из пяти человек – Заведующего, трех литсотрудников и регистратора писем. Таким-то числом мы целую газету три раза в неделю выпускали, а тут всего лишь отдел – гуляй, не хочу! Однако быстро понял, что это тебе не районная или городская газеты, где ты в каждом номере выдавал по полосе. Тут напечататься будешь считать за счастье, потому что каждый день с утра до вечера надо вчитываться в чьи-то каракули, решать, куда направить их «для принятия мер» или готовить подборку «писем трудящихся» для третьей полосы. О своих публикациях и думать некогда. Во, попал!
Двоих других «литрабов» это устраивало, они и не рвались на полосу, довольствуясь перекладыванием чужих бумаг. Завотделом тоже был доволен оргработой. А мне чиновничий труд показался тяжким, и я стал искать возможность выхода на полосы в других отделах. Работал на них вечерами и в выходные дни, фамилия замелькала на страницах. Жажду печататься первыми заметили в отделе сельского хозяйства, и вот я уже разъездной корреспондент областной газеты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: