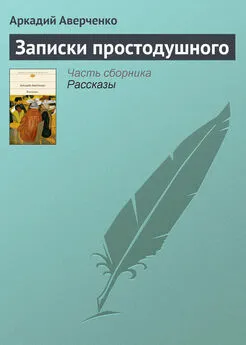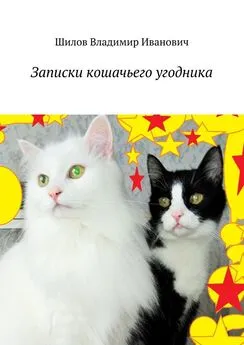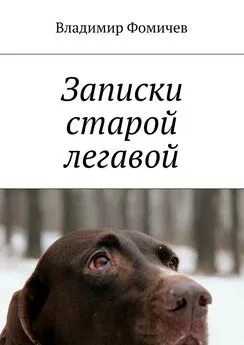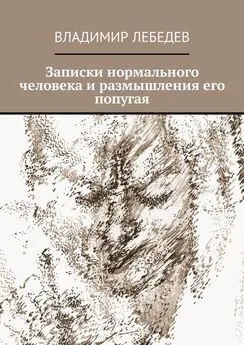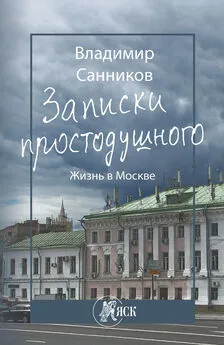Владимир Санников - Записки простодушного
- Название:Записки простодушного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0249-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Санников - Записки простодушного краткое содержание
Эта книга — правдивый и бесхитростный рассказ о детстве и юности автора, которые пришлись на трудные военные и «околовоенные» годы. Не было необходимости украшать повествование выдуманными событиями и живописными деталями: жизнь была ярче любой выдумки.
Отказавшись от последовательного изложения событий, автор рисует отдельные яркие картинки жизни Прикамья, описывает народную психологию, обычаи и быт, увиденные глазами мальчишки.
Написанная с мягким юмором, книга проникнута глубоким знанием народной жизни и любовью к родному краю.
В. З. Санников — известный филолог, доктор филологических наук, автор работ по русскому языку и его истории, в том числе «Русский каламбур», «Русский язык в зеркале языковой игры».
Записки простодушного - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это понял (правда, не сразу) Алексей Толстой, это мудро, сразу, поняли Ломоносов (Он Бог, он Бог твой был, Россия!) и Пушкин, благословляющий петровский Петербург как символ России:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия…
Но этого не дано понять «великому» скульптору Шемякину, чья издевательская, кощунственная скульптура Петра до сих пор стоит (точнее — сидит) в самой Петропавловской крепости, напротив собора Петра и Павла! Между тем как ее место — где-нибудь на задворках художественного музея, в тупичке скульптур-карикатур. Помню, как (сравнительно недавно уже) гулял я по Петербургу, а потом впервые увидел эту скульптуру. Кто-то сказал, что город — это симфония. Петербург — моя любимая симфония. А тут вдруг — фальшивая, «визгливая» нота, прямо — ножом по стеклу. Вот уж поистине — Шемякин суд (прошу прощения за дурной каламбур).
Простите, увлекся я…
Поселили нас на Васильевском острове в общежитии Ленинградского университета. Каждый день шли мы через Неву в Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей — по льду, пешком (чтобы не платить за проезд). Шли как на работу — часов на 7–8 с коротким перерывом на обед. И, потрясенные, смотрели, смотрели, смотрели, записывали названия особенно понравившихся картин. Угадайте, что нам нравилось? Ну, конечно, реализм — Шишкин, Айвазовский, Левитан, передвижники («Ты посмотри, как каждая складочка на тулупе выписана!»).
А залы XX века, те самые, которые я сейчас в первую очередь осматриваю, приезжая в Петербург, мы тогда пробегали, не стесняясь громко возмущаться «этой мазней».
На военных сборах, в Бершадских лагерях под Пермью, были мы в студенческие годы дважды, каждый раз по месяцу.
После вторых сборов нас ждали экзамен, довольно строгий, и получение офицерского звания.
Кроме знаний, необходимых будущим пехотным офицерам (тактика, командование взводом в оборонительном и наступательном бою и т. п.), нам давали потянуть и «солдатскую лямку» — преодоление штурмовой полосы, ползание по-пластунски под колючей проволокой, ночные атаки. Трудно, но это нас не пугало. Дали нам и «пороху понюхать»: мы, «бывшие мальчишки», с удовольствием (и неплохо!) стреляли — из пистолета, автомата Калашникова, пулемета Горюнова, бросали боевые гранаты. Еще жива была память войны. Мы сознавали, что в мире немало врагов и теперь уже наш черед бороться с ними. Да и на территории лагеря мне, педанту, даже нравилось: строгий порядок, идеальная чистота.
Но не стал бы я писать об этих сборах (не велико счастье!), если бы не одно ЧП. Вот уж по пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!»
В лагере к нам был приставлен немолодой, пузатенький капитан, прошедший всю войну. Помню, учил: «Ты в атаку идешь — не беги прямо, дуриком: „Ура, за Родину!“ Ты виляй, пригибайся! И в траншее тебя не ждут с распростертыми объятьями — нож тебя ждет. Ты и развернуться в тесноте не успеешь, как тебе брюхо вспорют. Ты сначала дорогу себе расчисти, в траншею гранату швырни, только РГД! А Ф-1 не годится — сильна, от тебя самого ничего не оставит». И не был наш капитан солдафоном, напрасно нас не гонял, да и вообще был человек умный, и в перерывах мы с интересом с ним болтали.
Но вот однажды заболел капитан, и отдали нас молоденькому лейтенантику. Тот решил показать этим «студентам-интеллигентам» почем фунт лиха. Нас не удивишь, мы, дети военных лет, не были избалованы, все его распоряжения исполняли беспрекословно, хотя жара тогда была страшная (ну точно за 30!). Помню, просим: «Товарищ лейтенант! Разрешите сходить за водой для взвода!» — «Сходить нельзя, сползать можно!» Желающих ползти до речки по-пластунски метров 300 (если не больше) не нашлось, и мы, изнывая от жажды, насилу дождались перерыва на обед.
Всё! Идем по пыльной дороге в лагерь. Еще 2–3 километра — и обед, а потом вожделенный послеобеденный отдых в палатках. И тут лейтенантик кричит: «Рота! За-апевай!» Обычно мы охотно орали строевые песни — и старые «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать!..», и новые. Любили переделывать и петь в строю песни и стихи совсем уж не военные, даже пиратские:
Когда мы вновь вернемся в Портленд,
Клянусь: я сам взойду на плаху,
Да только вновь вернуться в Портленд
Не дай нам, Боже, никогда…
Даже детские песни пели. Вот рота, более сотни здоровых глоток, гремит:
На-аша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, тише, Танечка не плачь —
Не утонет в речке мяч!
Помню, пели в строю Киплинга:
День-ночь, день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь — всё по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль — от шагающих сапог!
Отдыха нет на войне солдату…
Но вот в тот день, в том пекле, — какая уж тут песня? Горло пересохло, на зубах песок, лица — серые от пыли. А лейтенант опять: «Р-рота! За-апевай!» Все молчат. «Р-рота! За-апевай!» Все молчат. «Р-рота! Бегом марш!» Сам-то лейтенантик побежал, но рота, окруженная облаком пыли, как шла, так и шла…
Этот самолюбивый дурачок подал начальству лагеря официальный рапорт о нашем неподчинении приказу. А это уже не шутка, начальство должно реагировать. Помню, собрали нас в клубе, и какой-то полковник-политработник гневно клеймил нас за неисполнение приказа: «В масштабе советских вооруженных сил рота — это капля в море! Мы сметем с лица земли мятежную роту!» Понимали мы, что это — красивое преувеличение (все-таки это уже 55-й год, не сталинские времена), но вот не зачесть сборы нам могли. А значит — нет офицерского звания и — ступай солдатом в армию?.. Поэтому мы с облегчением вздохнули, когда наш капитан шепнул нам, что мы отделаемся экзекуцией (думаю, сам и отстоял нас).
На следующий день построили «мятежную роту» на плацу. «Противогазы надеть! Бегом — а-арш!» Каково это — бегать в противогазе — показал Никита Михалков в «Сибирском цирюльнике». Вот кто-то свалился, старшина содрал с него противогаз. Да и нам вскоре приказали: «Рота, стой! Снять противогазы!»
А счастье-то где?! А вот: содрать с лица липкую, обслюнявленную резину, вдохнуть глубоко-глубоко живой воздух. А главное — счастливый следующий день… Опасность остаться без офицерского билета — позади, а впереди — воскресенье, целый свободный день! Каким он казался сказочно длинным! Сразу после завтрака идем на речку, купаемся, загораем, читаем, играем в карты, стираем свое бельишко и заскорузлые черные портянки. А вечером — кино… Это ли не счастье?!.
После летних каникул разговариваю с любимой моей преподавательницей — Ксенией Александровной Федоровой — о теме моей дипломной работы. Она предложила описание сочинительных союзов в древнерусских текстах. Сразу же захожу в университетскую библиотеку, беру литературу, издания древних текстов, с огромной кипой иду в общежитие. По пути присаживаюсь на скамеечку, открываю толстенную книгу «Духовные и договорные грамоты московских и удельных князей XIV–XVI вв.» и, счастливый, предвкушаю радость погружения в жизнь далеких предков, попытку понять их язык и их мироощущение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: