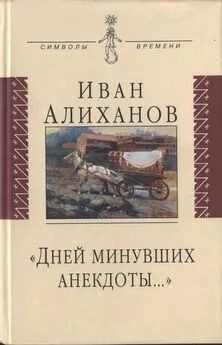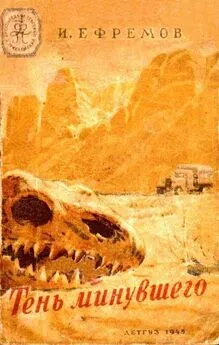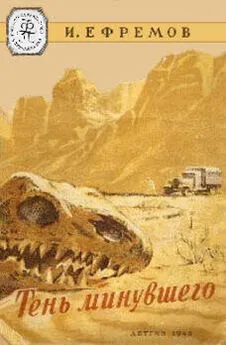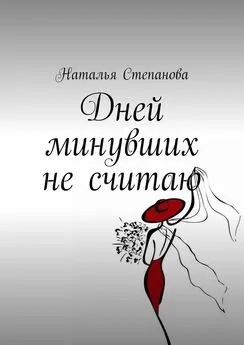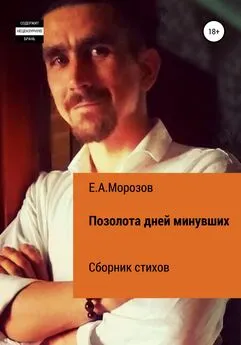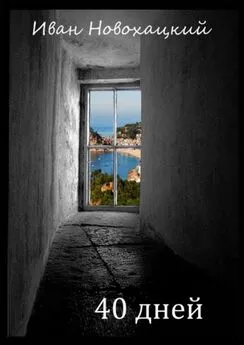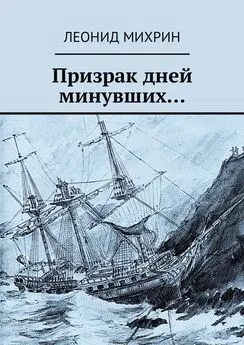Иван Алиханов - «Дней минувших анекдоты...»
- Название:«Дней минувших анекдоты...»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0290-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Алиханов - «Дней минувших анекдоты...» краткое содержание
В книге описывается история жизни многих представителей рода Алихановых, судьба которых стала достоянием отечественной истории или трагически оборвалась. Это пианист и меценат Константин Михайлович Алиханов, стоявший у истоков творческого пути Ф. И. Шаляпина, адмиралы Андрей и Михаил Беренсы — двоюродные братья автора, и многие другие.
Подробно прослеживается поразительная история жизни Александра Яковлевича Эгнаташвили — отчима автора, и, судя по всему, — сводного брата Сталина, который из тифлисского нэпмана-ресторатора стал заместителем генерала Власика по хозяйственной части Главного управления охраны Кремля и обеспечивал проведение Ялтинской конференции.
Книга, написанная живым и ярким языком, иллюстрированная множеством уникальных фотографий и документов, представит несомненный интерес для широкого круга читателей.
«Дней минувших анекдоты...» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эту немыслимую галиматью в течение полугода я доводил до сведения наших голодных студентов.
Однако, слава богу, и этой моей деятельности пришел конец. Меня вызвал милый человек Федор Афанасьевич Схиртладзе — председатель Комитета по делам физкультуры и спорта Грузии, извинился и попросил уступить мою должность прибывшему из Баку на постоянное жительство в Тбилиси бывшему его учителю Льву Моисеевичу Кравчику, а мне предложил выбирать новое занятие. Так я стал аспирантом и взялся работать над темой: «Пути совершенствования техники спортивной борьбы». В 1951 году в № 1 журнала «Теория и практика физической культуры» была опубликована моя первая статья на эту тему. Только через 33 года, преодолев препятствия, в основном из завалов человеческой зависти, мне удалось первым в Союзе защитить докторскую диссертацию на материале спортивной борьбы. В 1945 году я доложил ход своей работы на институтской научной конференции. Любопытно вспомнить некоторые доклады, сделанные на том же научном форуме, которые свидетельствуют, с одной стороны, о нашей наивности, а с другой — о тогдашнем лысенковском уровне спортивной науки в стране.
Подполковник Федоров сделал «научное» сообщение: «Атеистическая направленность изменения конструкции мишённых опор». Для сдачи нормативов ГТО по стрельбе из малокалиберной винтовки недалеко от института было облюбовано защищенное крутым берегом Куры место, где мы оборудовали временный тир. Для установления мишеней, которые наклеивались на фанерные щиты, туда каждый раз относились (и приносились назад) колы с прибитой поперечной планкой.
— Маршируя на стрельбище, — отметил в своем сообщении подполковник. — студенты наряду с «мелкашками» несут в положении «на плечо» еще и крестовины. Такое шествие некоторые темные, приверженные религиозным предрассудкам обыватели принимали за крестный ход. Некоторые старушки, как я не раз замечал, осеняли и себя и нас крестным знамением. Известно, что в районе Ортачал население преимущественно мусульманское, поэтому вполне могли быть провокации на религиозной почве. С другой стороны — попадись мы на глаза партийным руководителям района, и в отношении нашего института могли быть сделаны оргвыводы. Оставлять же колы на стрельбище нельзя из-за топливного кризиса в городе. Положение казалось безвыходным… Но в конце концов выход был найден. Вот он!
С этими словами Федоров поднял над кафедрой крестовину, как фокусник, легким движением другой руки повернул поперечину, совместил ее с опорным колом и продолжил:
— Вместо трех гвоздей, которыми крепилась поперечина, я употребил один! Таким образом, цель была достигнута одновременно с троекратной экономией гвоздей.
Другой столь же содержательный доклад был сделан преподавателем грузинского языка, под названием «О влиянии грузинского языка на русский». Чтобы быть кратким, приведу его аннотацию:
«При длительном совместном проживании людей разных национальностей естественно возникает взаимопроникновение культур. Известно, что в словаре иностранных слов около 20 000, принятых в русском языке. Мои исследования могут несколько дополнить этот словарь принятыми в русском языке грузинскими словами. На первую находку меня натолкнуло выражение „Ни зги не видно“. В русском языке нет слова „зга“ (не имел, видимо, возможности наш языковед заглянуть в толковый словарь Даля, „зга“ — это поддужное колечко, в которое продевается недоуздок). Означает это выражение — „не видать дороги“. По-грузински „дорога“ — „гза“. Таким образом, это грузинское слово в несколько искаженном виде попало в русский язык. Другое слово „пеший“ и производные от него „пехота“, „пешком“ не имеют этимологического объяснения. Несомненно, слово „пехота“ произошло от грузинского „пехи“, что означает „нога“ („pedis“ — нога по-гречески)».
Третий, не менее содержательный доклад, касался применения песочных часов в судействе боев на шпагах в соревнованиях по офицерскому пятиборью, длительность которых ограничена одной минутой и так далее (с секундомерами был дефицит).
Боже мой! В течение 40 лет я был участником множества конференций, но запомнились мне только эти нелепые доклады!
Я продолжал заниматься борьбой и в 1945 году вновь завоевал звание чемпиона Грузии по французской, а затем и по вольной борьбе. Продолжал готовить я кое-какие материалы для диссертации. Но тут вернулся из армии бывший заведующий этой кафедрой коммунист и зануда Кузовлев. Кравчик был переведен на должность заместителя директора по учебной части, а Кузовлев стал моим руководителем. Мои заготовки по борьбе он отложил в сторону, заявив, что не может быть руководителем темы, в которой не разбирается, и предложил мне заняться новой — «Метание гранат в горах». Не зная, как к ней приступить, я начал с того, что поехал зимой в Бакуриани и фотографировал студентов, метавших по моей просьбе гранаты вверх и вниз на лыжном трамплине. Помимо этого я делал съемки Всесоюзных соревнований по слалому.
По приезде в Тбилиси я зашел в редакцию газеты «Молодой сталинец» и показал ответственному секретарю Лазарю Андреевичу Пирадову мои фотографии, и он сразу же предложил мне вакантную должность фотокорреспондента.
Глава 11
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА
«Быть или не быть?»
У. ШекспирУехав из Москвы в декабре 1940 года, на другой день после импровизированной свадьбы, я вернулся в Орджоникидзе к месту службы.
Мама в коротеньких письмах раз в месяц с немецкой пунктуальностью сообщала мне домашние и семейные новости. Вскоре после начала войны в Орджоникидзе приехала моя жена, а в начале сентября — моя теща Анна Васильевна. Чтобы достать железнодорожный билет, ей пришлось обратиться за помощью к Александру Яковлевичу. От тещи я узнал, что мама и Валя — жена моего брата Миши, с только что родившейся дочерью Леночкой отправлены в Куйбышев. Это были последние сведения о родных мне людях. Потом, уже в конце декабря 1941 года, состоялся разговор по телефону с Александром Яковлевичем. Затем последовало все то, что уже описано в главе «Моя война».
7 мая 1945 года команда борцов из Грузии отправилась в Москву на соревнования. 9 мая на всех железнодорожных станциях наш поезд сопровождало народное ликование. Война кончилась!
Перед отъездом в Москву я зашел к Василию Яковлевичу Эгнаташвили в Верховный Совет. Он встретил меня как обычно очень приветливо: «А, Ваня, Ваня, заходи! Как ты живешь? В Москву едешь? В Москву, в Москву… К Саше? Очень хорошо! — говорил он, прохаживаясь по своему огромному кабинету. — Саша все жалуется на болезни. Он думает, что болен; он куда здоровее меня, а я не жалуюсь. Он просто мнительный…» Василий Яковлевич любил повторять одно и то же. Время от времени, затягиваясь папироской, он останавливался, растягивал рот, сильно дул, при этом дым выходил из уголков рта в разные стороны, наподобие сомьих усов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: