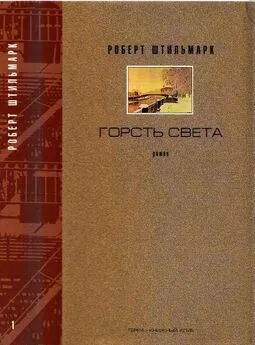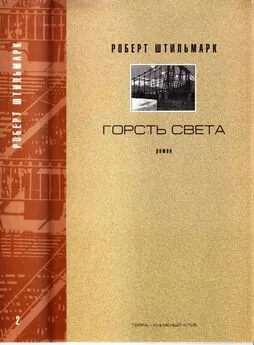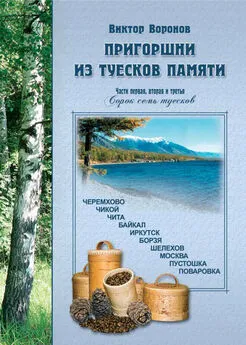РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
- Название:ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТЕРРА - Книжный клуб
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00276-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая краткое содержание
Роберт Александрович Штильмарк (1909-1985) известен прежде всего как автор легендарного романа «Наследник из Калькутты». Однако его творческое наследие намного шире. Убедиться в справедливости этих слов могут все читатели Собрания сочинений.
В первый том вошли первые части романа-хроники «Горсть света» — произведения необычного по своему жанру. Это не мемуары в традиционном понимании, а скорее исповедь писателя, роман-покаяние.
ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
За томненской фабрикой начинались перелески, деревни, старые придорожные ракиты, а с волжской воды постепенно исчезали фиолетовые нефтяные разводы. Роня встречал знакомые речные плесы будто под неслышную музыку, идущую прямо из сердечных глубин. Сизые заволжские дали никаким иным словом выразить было нельзя, кроме как русские.
Шел пароход, и плыли назад облака, белые храмы и темные ели; западал в душу каждый овражек с пересохшим ручьем, стадом на водопое среди илистого прибрежья, деревенским мостиком, дорогой по косогору, ветлой у колодца. Взбивали колесные плицы два рядка убегающих волн и ластились они за пароходом к отмытым добела песчаным отмелям. Мальчишки-купальщики покачивались на вспененных валиках-волнах. Избушки бакенщиков до того казались малыми, будто их добрый леший ставил для детских игр, только шесты полосатые и сигнальная снасть выдавали, что не сказочные это избушки, а служебные, для безопасности пароходов.
Было нечто горделивое в посадке гребцов на рыбачьих лодках, да и в самой форме суденышек. Ближе к носу двое гребцов часто сидели рядом и действовали каждый своим веслом без видимого усилия, почти не двигая корпусом. Нередко гребцами бывали муж и жена, весло же рулевое, кормовое, доверялось рукам мальчишеским, а то и девичьим. Волгари!
Не поспеешь полюбоваться Волгой, всему всласть нарадоваться, а уж чалится самолетский «Князь Иоанн Калита» либо кавказ-меркурьевская «Императрица Мария» — впрочем летом 17-го уже переименованная — к своему решемскому дебаркадеру [29] «Самолет», «Кавказ и Меркурий» — названия пароходных компаний.
.
Береговой откос над глинистым обрывом, весь в лопухах, кипрее и мать-мачехе, тяготеющей к сырости и тени, поверху завершен выбеленной кирпичной стеною Решемского Макарьевского женского монастыря. Настоятельницей его была женщина умная и строгая. Знали обыватели, что она — старшая сестра знаменитой, уже входящей в мировую славу артистки Большого Театра в Москве, балерины Екатерины Васильевны Гельцер. Пережив глубокую сердечную драму, отклонив увещевания младшей сестры-артистки, старшая затворилась в монастырской обители и сумела так образцово поставить сложное и обширное хозяйство, что слава Решемского-Макарьевского вскоре пошла по всей Волге. А ее, матушку, рачительным домоводством удивить было не просто! Она-то умных хозяев знавала!
Снизу, с парохода, белые башенки-часовни резко отчеркивали монастырскую ограду от строений посадских, слободских. Хороши были шатры решемских колоколен — ярославская кладка, стремящаяся к особенной стройности, резные оконца-слухи среди свежей побелки, смелый взлет креста к облакам, реяние голубиных крыл над перекладинами крестов.
Созвучие с таким же крутым взлетом ввысь могучих монастырских елей, иссине-лиловых, до черноты!
Решемские стены, шатры и ели православная Русь помнит с пятнадцатого столетия, только в те времена здешний монастырь был мужским, вплоть до конца прошлого века.
На ранних зорях к осветленным покраскою соборным главам никли прядки испарины от сохнущей росы, и тогда монастырские купола теряли неподвижность. В мареве утренней росной дымки луковки куполов колыхались и дрожали в небе, как пламя зажженных Богу свечей.
Девятилетний Роня обрел здесь первого друга, только не однолетка, не сверстника. Мальчика сразу потянуло к соборному священнику отцу Ивану, с первой улыбки и приветливого взгляда. Был отец Иван очень красив, с тонкими, но очень сильными пальцами, шелковым отливом каштановых волос, музыкальным голосом, похожим на папин, но повыше. Происходил он из строгой дворянской семьи, окончил Духовную академию, но отказался от легкой столичной карьеры. Сам напросился ехать служить в заволжское село. О нем по-соседству прослышала решемская игуменья и уговорила перейти в женский монастырь. Было это еще до войны.
Война же эта чадила и грохотала вот уж четвертый год, и все глубже вязли расписные спицы российской тройки в безнадежно разъезженные военные колеи! Уже нетерпеливо дыбились кони, а возница по-прежнему понукал их вперед, в гиблое месиво фронтов. Правил теперь российской государственной колесницей Александр Федорович Керенский, адвокат и эсер. Мама отзывалась о нем с пренебрежением и злостью: ни Богу свечка, ни черту кочерга! Не такой, мол, надобен глава — молодой, неокрепшей российской демократии! Немецкая же армия, терпя поражения на Западе, мнила возместить их тупым, роковым нажимом на Востоке, грозя надломить самые опоры новой России. Когда же Александр Федорович побудил Ставку Верховного Главнокомандования предпринять отчаянное летнее наступление против немцев под Тарнополем, германский Генеральный штаб ответил сокрушающим контрударом, разгромившим русский юго-западный фронт. Войска этого фронта откатились далеко назад, и более 60 тысяч российских защитников угодили тогда за колючую проволоку немецких лагерей для военнопленных.
Не успела русская армия оправиться от этого потрясения, как на западном фронте генерал Корнилов сдал германской армии Ригу, открывая фланг для удара по Петрограду. Сделано это было с глубоким расчетом, но Керенский не смог или не захотел понять его. Совесть и государственные интересы России, как он понимал их, не позволили ему пойти на сговор с мятежным генералом или на сделку с противником. Зато как быстро преуспели на этом поприще сменившие его правители...
Дурные вести с полей сражений доходили с опозданием до жителей Решмы. Задерживались и папины письма, поступавшие из Галиции. Писал он все короче и туманнее, понятно было лишь, что командует теперь бригадой гренадеров-артиллеристов и находится на передовых. Отец Иван научил Роню молиться за папу и его солдат русскими молитвами. Мальчик верил в их спасительную силу, в отличие от молитв немецких, лютеранских, которые, по здравому размышлению, могли помогать только Вильгельму. Решемский священник часто брал мальчика в алтарь монастырского собора, где Роня с замиранием сердца следил за священнодействием у престола, приготовлениями к таинству причащения и сам причащался первым.
Отец Иван именовал мальчика не Рональдом, а Романом и советовал Ольге Юльевне не идти против желаний сына и торжественно свершить над ним обряд православного крещения по всем правилам. Ольга Юльевна же отнекивалась, говорила, что такой выбор требует рассуждения более зрелого, но, впрочем, добавляла, будто обряд православного крещения только без всякой торжественности, уже был над Роней совершен в дни его младенчества, когда его, полугодовалого, впервые привезли в Решму и предшественник отца Ивана, прежний соборный батюшка-благочинный, по собственному разумению «перекрестил» лютеранского младенца. Выходило, будто именно тогда и наречен был мальчик благоносным именем Роман — во славу преподобного сладкопевца, о чем даже совершена была и запись в церковных книгах. В присутствии Рони родители намекали на это странное обстоятельство как-то смутно и обиняком, прямых вопросов избегали, и Роня чувствовал, что неопределенность эта связана с родительскими тревогами о будущем. Мол, при надвинувшихся событиях мыслимо ли предусмотреть, куда еще занесут ветры судьбы утлую семейную ладью и разумно ли поощрять детские Ронины склонности, если они могут пойти вразрез с вековыми традициями рода Вальдеков и семейства Лоренс?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: