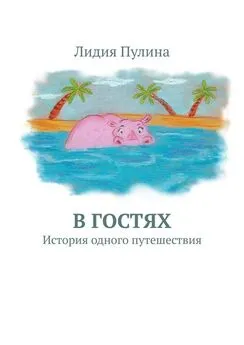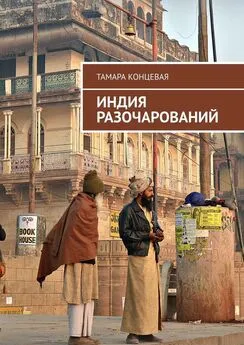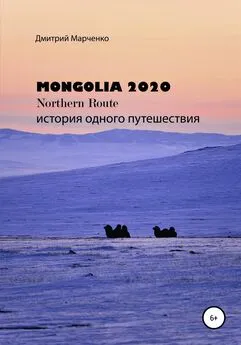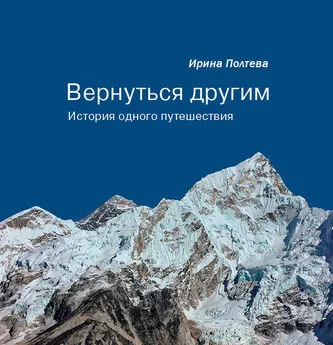Вадим Андреев - История одного путешествия
- Название:История одного путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Андреев - История одного путешествия краткое содержание
Новая книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
История одного путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В те дни я наколол себе ногу. За шесть месяцев пребывания в лагере я ни разу не надевал башмаков — их у меня не было, — и на ступнях образовалась в палец толщиной, неизносимая подошва. Несмотря на эту подметку, я все же ухитрился занозить пятку. Обыкновенная физическая боль на некоторое время вернула меня к жизни. Я цеплялся, как за спасательный круг, за ноющую боль.
Из России доходили обезображенные передачей из уст в уста, страшные вести: поволжский голод 1921 года, антоновщина… Уже в конце лета, в сентябре, я узнал о смерти Александра Блока.
Однажды, в первый раз после моего отъезда из Финляндии, из последних сил преодолевая отупение, я попытался написать стихи:
Я смотрю равнодушно окрест,
Надышаться не смею простором:
Нет, не реет Андреевский крест,
Голубой, над лазурным Босфором…
На минуту мне почудилось, что вот-вот сейчас проснется давно знакомая голубиная музыка, та самая, которую я слышал на Черной речке, — но вокруг все молчало, лениво струился пустынный Босфор, и я вдруг с необыкновенной ясностью почувствовал ложный пафос моего мертвого патриотизма: кому теперь нужен Андреевский крест, — нет русского флота, нет русской армии, нет и самой России. Нужны были годы для того, чтобы я понял, что умерла не Россия, а та фантастическая, нереальная страна, которую создало мое воображение.
Темным, безлунным вечером я вышел из казармы. Душная темнота обступила меня со всех сторон. Издалека, оттуда, где медленно струился невидимый Босфор, до меня донеслось:
Эх, Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь…
Я понял, что все кончено бесповоротно, что все даром — и смерть Феди, и наше безумное предприятие, и наша любовь.
Эх, Кубань…
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ
1
После засушливого, мертвого лета 1921 года на выгоревшие, желто-коричневые берега Босфора с Черного моря, с севера, налетели осенние ветры. Но и они не принесли дождей: по холодному небу пролетали разорванные клочья облаков, в своей упрямой спешке на юг цеплявшиеся друг за друга лохматыми щупальцами, и по безжизненной земле неслись темно-синие пятна теней, легко взбегая на прибрежные холмы и стремительно спускаясь в провалы долины.
С одиночеством я больше не пытался бороться. Лагерники продолжали жить тем, чему я уже не верил, — надеждой на падение большевиков и на скорое возвращение в Россию. Я ни с кем не находил общего языка, да и не хотел его найти — мне все было безразлично.
Все настойчивей становились слухи о том, что наш лагерь вскоре будет ликвидирован. Вероятно, никто во всем лагере Китчели — а было нас человек до пятисот — не знал, на какие деньги мы существуем, какое правительство — американское, английское, французское? — озабочено нашей судьбой, какая часть ассигнованных сумм действительно доходит до нас, а какая по дороге прилипает к рукам многочисленных и безымянных посредников, — все это терялось где-то там, «вверху», за широкими плечами нашего коменданта, генерала Бергаминова. Сам Бергаминов жил в отдельной палатке, на отлете, видели мы его редко. Иногда он уезжал на несколько дней в Константинополь, но его отсутствие ничем не сказывалось на нашей жизни: нас продолжали кормить так же плохо — не хуже, да и не лучше.
Однажды я встретил коменданта на дорожке, ведущей к пристани. Генерал остановил меня:
— Это вы, Андреев? Знаете, я думаю, что скоро мне придется вплотную заняться политикой.
Я с удивлением посмотрел на Бергаминова: в первый раз за все мое пребывание в лагере он заговорил со мной.
— Какой же политикой, господин генерал?
Настоящей. Для опасения России.
— Но все же…
— Нет ничего проще. Не понимаю, как до сих пор еще никто не выдвинул настоящей (видимо, ему очень нравилось слово «настоящий») политической платформы. Сейчас важнее всего объединить всех эмигрантов в один несокрушимый кулак. А для этого надо взять английскую конституцию, перевести ее на русский язык — и пожалуйста: все будут довольны — и монархисты, и республиканцы.
— Английская конституция, вероятно, уже давным-давно переведена, а объединения пока что не видно.
Генерал Бергаминов посмотрел на меня в упор и сухо сказал:
— Имейте в виду, что другого пути нет и не может быть. — И, круто повернувшись, пошел в сторону казармы.
После этого разговора я понял, что дни лагеря сочтены: если уж сам комендант решил вплотную заняться настоящей политикой и вдобавок на мне «пробует» оригинальность своей политической «программы, то нам, лагерникам, пора складывать пожитки.
Обитатели нашего лагеря — кубанцы, терские казаки, грузины, немногочисленные русские из центральных областей — все еще продолжали переживать мелкие обиды, разделявшие их: кто-то кому-то не помог в решительную минуту, кто-то оказался труслив, кто-то не к месту храбр. Областные «правительства» исподтишка подторговывали национальными богатствами России: кубанцы — майкопской нефтью, терцы — серебряными рудниками, грузины даже ухитрились продать будущий, 1922 года, виноградный сбор. Международные спекулянты, снабженные паспортами всех стран мира, покупали все — они были убеждены, что большевики падут со дня на день и что после этого затраченные гроши превратятся в гигантские прибыли. Исторической неизбежности Октябрьской революции никто не понимал, и провал бесчисленных интервенций казался торгашеской душе спекулянтов нелогичным и оскорбительным.
А кулак, в который собирался объединить эмигрантов генерал Бергаминов при помощи английской конституции, все никак не складывался: есаул Булавин, ярый кубанский самостийник, как-то вечером вернулся в казарму с подбитым глазом, войсковой старшина Сеоев вызвал полковника Стреху на дуэль, и если дело обошлось без кровопролития, то лишь потому, что нигде не смогли раздобыть дуэльных пистолетов. Причина же ссоры сама по себе была очень характерна: Сеоев многие годы командовал личной охраной Николая Второго и четырнадцать раз на Пасху христосовался с императором. И вдруг войсковой старшина, с которым государь лично здоровался перед фронтом: «Здорово, Сеоев!» — объявил себя республиканцем! А с другой стороны, как же было Сеоеву оставаться монархистом, признавать «единую и неделимую», если его самостийное терское правительство продало серебряные рудники и он надеялся получить свою грошовую долю?
Пока лагерь не был еще распущен, мне приходилось жить все в тех же полуголодных условиях, и в поисках еды я в сотый раз обшаривал прибрежные босфорские холмы. Изредка мне удавалось напасть в самой непролазной чаще на кусты еще не ободранной лагерниками ежевики или сорвать с самых высоких, казалось бы, недоступных веток чудом уцелевшие полузрелые фиги. Однажды мне посчастливилось взобраться на огромное ореховое Дерево, стоявшее неподалеку от единственного близкого к лагерю жилья, полуразвалившегося каменного дома, в котором жил черноволосый турок. Это дерево турок охранял днем и ночью. Вооруженный старым охотничьим ружьем, он постоянно сидел в засаде, и уже не один кубанец приходил к лагерному фельдшеру, со смущенной улыбкой, прося выковырять засевшие под кожей дробинки. Я набил мешок тяжелыми грецкими орехами и уже собирался спуститься на землю, как вдруг на тропинке, ведущей к домику, появилась худенькая пятилетняя девочка. Одета она была в длинную, до самой земли, рубашку. Сквозь прореху на спине просвечивало костлявое тельце. Девочка в руках держала свернутую жгутом тряпку, в двух местах перетянутую веревкой — на поясе и на шее: тряпка изображала куклу. Я притаился в ветвях дерева, крепко вцепившись в мой мешок с орехами, и старался не дышать, — малейшее движение могло вызвать тревогу, и я уже видел в своем воображении появляющегося из-за кустов турка с его неразлучным охотничьим ружьем. Девочка усадила куклу на землю. Вначале все ее движения были медленны, неуверенны, отрывисты. Она еще не знала, как она будет играть. Но вот понемногу она начала увлекаться. Падавшая набок кукла была подперта камнем, у той части тряпки, которая изображала ноги, были положены крест-накрест два букетика цветов, и девочка, приподняв края своей рваной рубашки тонкими пальцами, начала танцевать, слепка припрыгивая, семеня босыми ногами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
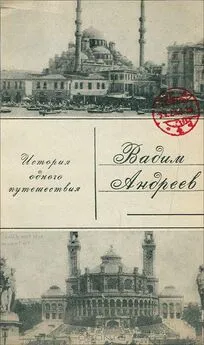

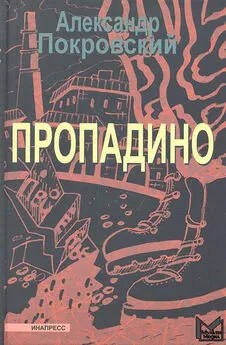
![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/1086902/aleksej-smirnov-svitok-pervyj.webp)