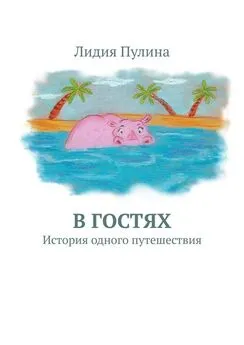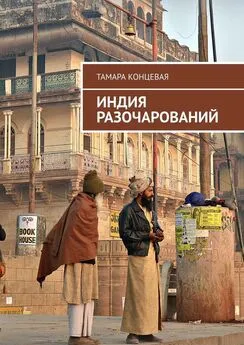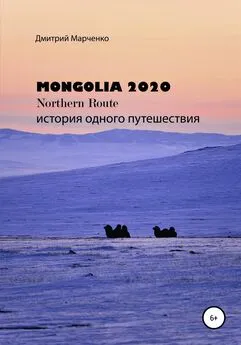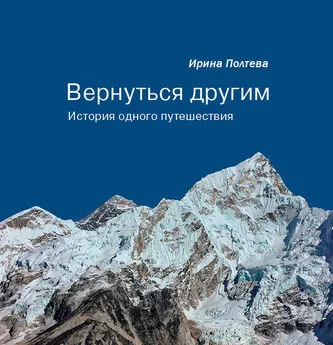Вадим Андреев - История одного путешествия
- Название:История одного путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Андреев - История одного путешествия краткое содержание
Новая книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
История одного путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Так вы Андреев? — сомневающимся голосом сказал Сосинский. — Скажите, кого вы больше любите — Блока или Бунина?
— Блока, конечно.
— Вот это отлично. Мы на вас Клингера выпустим. Впрочем, вам с Клингером все равно не совладать.
— А кто это «мы»?
— Нас человек десять. Живем на втором этаже, все больны стихами. Вы стихи пишете?
Я замялся:
— Пишу. Вернее, писал: вот уже год, как не написал ни одной строчки.
— У нас запишете. У нас даже Жорка Пфеферман и тот пишет.
— А вы тоже пишете?
На этот раз очередь пришла замяться Сосинскому: о своей поэме «Бог и человек», которую бердянские гимназистки сравнивали с «Божественной комедией», Володя при первом знакомстве умолчал.
— Одним словом, переезжайте к нам. У вас какое-нибудь барахло есть?
— Вот, что на мне. Скажите, — спросил я, помолчав, — кто такой Клингер? Ученик?
— К сожалению, нет. Возрастам не вышел: последнее время Стороженко начал придираться, — если больше тридцати, не принимает. Старых учеников — ничего, не трогает, а новых не принимает. Клингер — ученик Брюсова.
Володя Сосинский сел на мою парту, и часа два мы проговорили с ним о стихах. Вначале он меня экзаменовал, соображая, что нового я смогу внести в их поэтическую группу, потом увлекся. Имена русских поэтов взрывались, как ракеты: Фет, Баратынский, Бальмонт, Волошин, Анненский, Ахматова, Мандельштам; о Пушкине и Лермонтове не говорили — это были имена школьной программы и подразумевались сами собой. Это «само собой подразумевается» через несколько лет, когда Володя держал экзамен по русской литературе в Сорбонне, с ним чуть не сыграло прескверную шутку: на вопрос профессора Омана, кого из русских критиков он может назвать, Володя отчаянно покраснел, запнулся и оказал:
— Овсяннико-Куликовский…
— А кто еще?
— …Измайлов…
— Неужели вы никого больше назвать не можете? После долгого молчания Володя наконец произнес:
— Петр Быков.
Оман, вероятно, никого из перечисленных Володей критиков никогда не читал, а я сам только после этого экзамена узнал, что был такой Быков, писавший предисловия к собраниям сочинений, выходившим приложениями к журналу «Нива». Когда я после экзамена спросил его, почему он не назвал имен Белинского, Добролюбова, Писарева, Володя ответил с возмущением:
— Но их же все знают!
По счастью, за письменную работу о Гоголе (в которой не раз цитировался Белинский) Володя получил лучшую отметку из всех экзаменующихся, и Оман в конце концов поставил ему «удовлетворительно».
…Когда мы поднялись на второй этаж, где помещался восьмой класс, в комнате уже спали. Володя показал мне две свободных парты, объяснил, как, составив их вместе, можно сделать сносные нары, но предупредил:
— Клопы! Впрочем, теперь легче, вот летом было невыносимо — приходилось ночевать на дворе.
Потом, кивнув на чью-то высовывавшуюся из-под казенного одеяла стриженную под нулевой номер голову сказал:
— Даниил Резников. Настоящий поэт.
В ту минуту я, конечно, не мог догадаться, что через несколько лет мы — Сосинский, Резников и я — женимся на трех сестрах.
Дня через два, уже поздно вечером, Клингер пришел к нам в восьмой класс. Заходил он в лицей хоть и часто, но всегда неожиданно, как будто на то и рассчитывая, что его перестанут ждать. Сосинский сидел за учительским столом, разложив вокруг всевозможные перья и бутылочки с чернилами и тушью: он переписывал очередной номер школьного журнала. Вообще Володя в те годы, куда бы ни попадал, немедленно начинал издавать журнал — у него была врожденная любовь к книге, к ее художественному оформлению, и каждая рукописная страница превращалась в своего рода каллиграфический шедевр. Он только что кончил переписывать стихотворение Козловского — человека очень болезненного, замкнутого, почти никогда не участвовавшего в наших литературных разговорах. Козловский писал с необыкновенной легкостью звучные и красивые стихи. Его сонет был посвящен борьбе света с тьмою и кончался, как и полагается сонету, ударной строчкой:
Бог солнца Ра — Сет победил тебя!
Для этого стихотворения Сосинский придумал даже специальный шрифт — буквы напоминали ассирийскую клинопись.
Клингер взял в руки лист журнала, прочел про себя стихотворение и небрежно сказал:
— Бунин. Подражание бунинскому:
Ра-Озир и с, владыка дня и света,
Хвала тебе! Я бог пустыни, Сет…
И обращаясь к Володе:
— Клинописью писали ассирийцы. В Египте иероглифы.
Клингер говорил короткими, колючими фразами. Невысокого роста, узкий, острый, он часто, садясь, принимал свою любимую позу: вытянув одну ногу, он сгибал другую и, обняв ее, прижимал к груди. В такие минуты он становился похожим на раскрытый перочинный ножик.
Сразу завязался спор. Козловский не отрицал, что его сонет нечто вроде продолжения бунинского и что эпиграф, который Сосинский еще не успел переписать… Но Клингер остановил его:
— Если стихотворение только потому и стоит на ногах, что держится за эпиграф, как пьяница за фонарный столб, то такому стихотворению грош цена.
Я попытался возразить, сославшись на лермонтовскую «Сосну»:
— Гейне…
Клингер быстро повернулся ко мне, смерил меня с головы до ног — зрачки у него были неестественно большие и почти вытесняли радужную оболочку — и не дал мне кончить:
— Вы — Андреев? Чтобы в будущем между нами не было недоразумений, сразу же должен сказать, что не люблю произведений вашего отца: риторика.
Я поперхнулся и, пробормотав, что произведений отца господина Клингера никогда не читал, стушевался.
Володя перевел разговор на стихи самого Клиигера и не без труда уговорил его прочесть одно стихотворение. Теперь я помню только, что дело шло о расстреле молодого казака, о том, как побелело его лицо и на голой груди появились пятна — следы пуль. Жалости к расстреливаемому не было, но зато его конь описывался с восторгом. Презрение к людям, признание своей собственной непогрешимости и силы — ницшеанство второго сорта, так подхваченное впоследствии фашизмом.
Клингер был учеником Брюсова, но в стихах его это не сказывалось. От Брюсова он больше перенял странную манеру держать себя, вплоть до того, что он подавал руку так же, как Брюсов: сделав встречное движение, он вдруг останавливался, и ваша рука на полсекунды повисала в воздухе. В лицее он играл роль признанного мэтра. Не оборачивая головы, вполоборота, бросал: «Это дрянь», — и спорить с ним было бесполезно. Клингер сыграл большую роль в нашем лицейском кружке. Он был лучше любой антологии — знал наизусть почти всю русскую классическую поэзию. Он мог понравившееся ему стихотворение повторить наизусть после первого чтения — и не забывал его. Мы были желтороты, неопытны, и Клингер подавлял нас своими знаниями и умением говорить. Он мог привить нам скепсис и ядовитый критицизм: «Все так а у Тютчева — лучше», — но, по счастию, этого не случилось. Из современников он признавал Брюсова, Бальмонта, Бунина и Сологуба, все остальные были «ерундой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
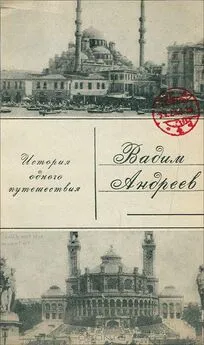

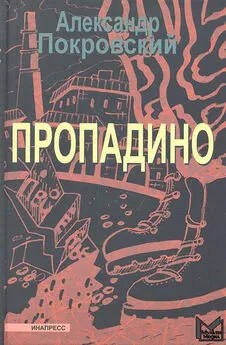
![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/1086902/aleksej-smirnov-svitok-pervyj.webp)