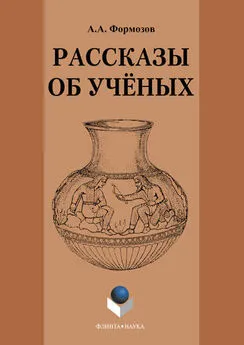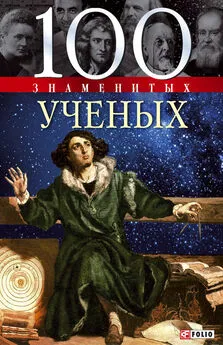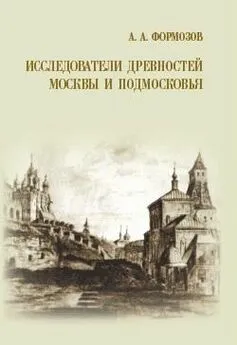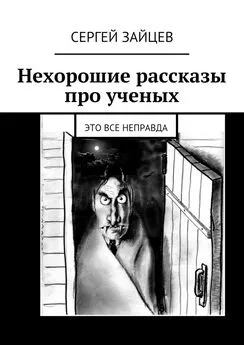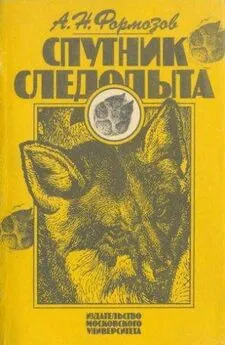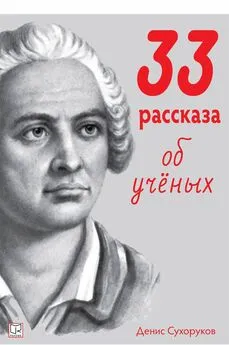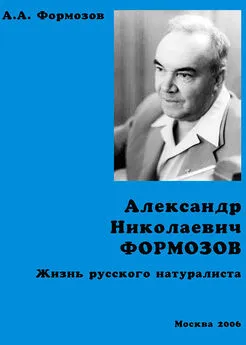Александр Формозов - Рассказы об ученых
- Название:Рассказы об ученых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-9765-1151-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Формозов - Рассказы об ученых краткое содержание
Книга принадлежит перу археолога и историка Александра Александровича Формозова. Его по праву считают выдающимся исследователем культуры и искусства первобытной эпохи на территории нашей страны, а вместе с тем – основоположником историографии российских древностей. В настоящей работе им отобрана и блестяще проанализирована серия немаловажных моментов в истории гуманитарной науки, прежде всего археологии, в России второй половины XIX – начала XXI веков. Воссоздавая выразительные портреты многих русских ученых, панораму общественной обстановки их жизни и деятельности, автор на этой фактической основе делится с читателями своими выводами и раздумьями относительно морально-этических основ научного познания.
Для историков, археологов; а также всех тех, кто интересуется социально-психологическими проблемами развития науки; в особенности – молодых исследователей, аспирантов и соискателей учёной степени.
Рассказы об ученых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Основные результаты исследований 1864–1866 годов нашли отражение в экспозиции Этнографической выставки 1867 года и в упоминавшейся выше монографии Богданова.
Центральный вопрос, волновавший всех, кто начинал исследование курганов, заключался в том, кому же принадлежат эти памятники – славянам или каким-либо другим народам? Из летописей известно, что до славян-вятичей, а затем рядом с ними в бассейне Оки жили финно-язычные племена меря и мурома. Именно летописным мерянам приписывал средневековые курганы Владимирской губернии А.С. Уваров. Пытался ответить на сложный вопрос и Богданов. Он отдавал себе отчёт в том, что язык, раса и материальная культура – явления разного порядка, и, приведя множество промеров черепов из подмосковных курганов, предпочёл осторожно писать не о славянах или финнах, а о «курганном племени». Этот искусственный термин вызывал недоумение многих читателей, добивавшихся полной определённости – славянские захоронения или финские.
Ещё К.М. Бэр заметил, что черепа из звенигородских курганов – долихокефальны, тогда как современные финны – брахикефалы, и предположил, что могилы принадлежали не финнам, а славянам. Утверждение было верным, но поспешным. Богданов установил, что долихокефалы, похороненные в курганах, достаточно резко отличались не только от современных финнов, но и от русских – тоже брахикефалов.
Позднейшие исследования показали, что процесс брахикефализации – увеличения круглоголовости – в течение тысячелетий шёл повсеместно, вовсе не свидетельствуя о смене населения. Богданов в 1860-х годах этого ещё не знал и уверенно отнести курганные черепа к славянам осмелился только тридцать лет спустя – в докладе на Международном конгрессе доисторической археологии и антропологии, состоявшемся в Москве в 1892 году. К тому времени накопились большие коллекции черепов, в частности из московских кладбищ. Костные останки XVI–XVIII веков оказались по своим показателям стоящими где-то посередине между черепами из курганов и черепами москвичей конца XIX века. Значит, после того, как были насыпаны курганы, никакой новый народ в Центральную Россию не приходил. Изменения в физическом облике обитателей этих мест наступили в результате эволюции.
Таким образом, в разработке вопроса о народе, оставившем подмосковные курганы, Богданов двигался в верном направлении и проявлял вполне разумную осторожность. Не менее важно другое. Признание реальности расовых различий ни в коей мере не ведёт к идее неравноценности рас. Перед нами только следы приспособления предков современных народов к той специфической природной обстановке, где они жили в условиях то относительной изоляции, то, напротив, интенсивного расового смешения. Высших и низших рас не существует. В период возникновения антропологии кое-кто допускал, что, хотя превращение обезьяны в человека произошло в глубокой древности, среди современных народов сохранились представители типа, более близкого к обезьяне, чем к человеку. В таком духе высказывался, например, известный популяризатор науки Карл Фогт.
Взгляды вульгарных материалистов оказали некоторое влияние на Д.И. Писарева, А.П. Щапова, говоривших в своих журнальных статьях о высших и низших расах. Богданов придерживался другой позиции. Его книга завершалась словами: «Нам нет надобности делать из выводов науки ненаучные средства… о происхождении народонаселения Средней России. Не в русском характере, не в духе истинной русской науки ломать факты и ложно освещать их, да и нет в том надобности. Не брахикефалия или долихокефалия даёт право народу на уважение, не курганные предки, каково бы ни было их происхождение, могут унизить или возвысить русский народ и ход его истории» [64]. Выступив против построений расистов, Богданов показал себя с наилучшей стороны.
Основные, чисто биологические, разделы книги Богданова я разбирать не стану. Отмечу лишь главное. В ходе исследований он убедился, что принятая было им методика Брока несовершенна, и создал собственную, более точную и более детальную программу измерения черепов. Проведенные им сотни промеров, оригинальные приемы изучения костных останков человека надолго стали образцом для наших антропологов. Сосредоточив внимание на черепах, автор старался извлечь всё, что возможно, из других костей ископаемого скелета. По его просьбе характеристику их подготовил упоминавшийся выше профессор медицины Н.Д. Никитин.
В заслугу Богданову надо поставить и то, что своими наблюдениями он делился не только с узким кругом специалистов, но в традициях демократической русской науки стремился познакомить с итогами проведенной работы самые широкие слои общества. Демонстрировавшиеся на Этнографической и Антропологической выставках археологические находки и черепа из курганов, макеты насыпей и захоронений дали тысячам посетителей наглядное представление о древностях Подмосковья.
Можно одобрить попытки Богданова получить заключения о материалах из раскопок от специалистов в области точных наук. Правда, его обширный план осуществлен не был, но технолог (в будущем профессор) П.П. Петров опубликовал две заметки о технологических особенностях кож, тканей и глиняных сосудов (15 экземплярах) из курганов [65].
Достоинства трудов Богданова бесспорны, но для археологии значение их оказалось куда меньшим, чем можно было ожидать. Процесс раскопок, сами захоронения, встреченные в них предметы при работе богдановского коллектива так и остались неописанными. Коллекции из разных мест, вовремя не приведённые в порядок и не заинвентаризованные должным образом, постепенно перепутались, потеряли этикетки и превратились в груду беспаспортных вещей. Понять, откуда, из какой курганной группы и из какой могилы происходят те или иные предметы, сейчас уже невозможно.
Находки 1864–1866 годов совсем неплохие, но набор типов древних вещей ограничен. Это всё те же семилопастные височные кольца, те же шейные гривны, бусы, перстни… Интерес этих материалов неизмеримо возрос бы, если бы мы знали, какие вещи встречены вместе, где именно на костях лежали определённые украшения и т. д. В первом случае это позволило бы выделить группы бесспорно одновременных изделий – комплексы, а во втором – реконструировать детали костюма. Из-за того, что ни чертежей, ни полевых дневников, ни публикаций, отражающих массовые раскопки подмосковных курганов, у нас нет, итоги большой работы в значительной мере обесценены.
Кто же в этом виноват? И.Д. Беляев, взявшийся за разбор археологических коллекций, умер в 1873 году, и они перешли в ведение Н.Г. Керцелли. Но и он умер, не составив их научного описания. Причины вроде бы уважительные, но решительно ничто не указывает на то, что Беляев и Керцелли, не имевшие опыта археологических исследований, овладели бы новой для них областью знаний, а Богданов позднее искал других исполнителей начатого дела. Многое было упущено ещё в процессе раскопок. Без дневников и чертежей находки оставались немыми. Безмерно жаль, что перед выездом в экспедицию Богданов не сумел договориться с такими признанными московскими археологами, как А.С. Уваров, И.Е. Забелин, Г.Д. Филимонов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: