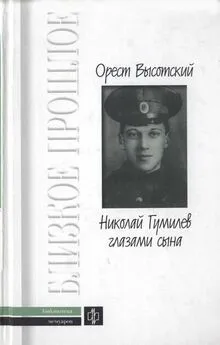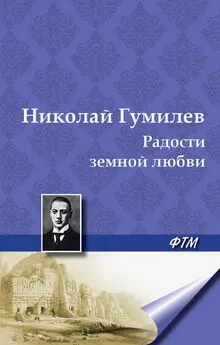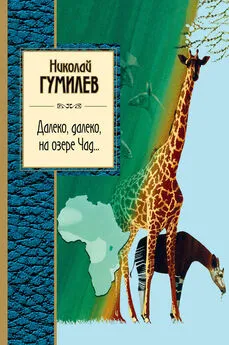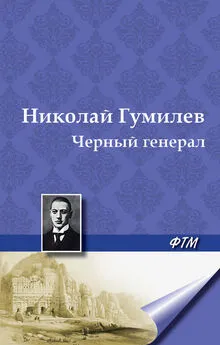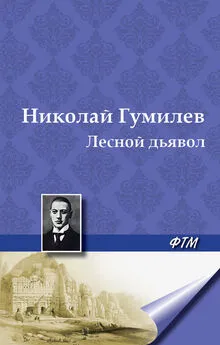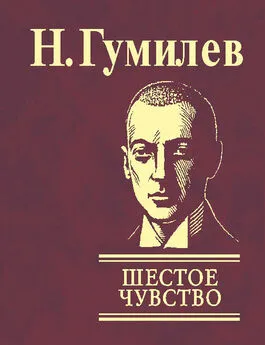Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына
- Название:Николай Гумилев глазами сына
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына краткое содержание
Ядро настоящего сборника составляют впервые публикуемые в полном объеме биографические записки о ярчайшем поэте Серебряного века Николае Гумилеве, составленные его сыном Орестом Высотским, также поэтом, до конца своих дней работавшим над книгой об отце. Вторая часть сборника — это воспоминания о Николае Гумилеве, собранные и прокомментированные известным специалистом по русской поэзии, профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом. Эти материалы Крейд расположил «сюжетно» — так, чтобы у читателя создалось наиболее полное представление о драматичной и захватывающей биографии поэта, в эпоху крушения империи воспевавшего державное отечество, отважного воина, путешественника, романтика.
Книга иллюстрирована уникальными фотодокументами.
Николай Гумилев глазами сына - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первое занятие Общества открылось чаепитием, и потом это вошло в традицию. Гумилев присутствовал на всех занятиях, которые проводил Анненский. Иннокентий Федорович не повторял того, что говорил на занятиях Поэтической академии Вяч. Иванов. У него были свои темы, например, Лермонтов, разбор стихотворения «Выхожу один я на дорогу»: заслуживали внимания отбор гласных, преобладание «о», «у», отсутствие «а» на ударных местах.
В ту осень на одном из собраний появился Андрей Белый, который привез с собой из Москвы рукопись исследования по метрике стиха (вошедшую потом в его книгу «Символизм»). Профессор Зелинский сделал интересный доклад о возможности передать русским стихом античные размеры. С первых чисел октября начались диспуты, в которых оппонентами выступали И. Анненский и Вяч. Иванов. Чаще других в спорах участвовали Н. Гумилев и М. Волошин.
24 октября в редакции «Аполлона» был праздник — вышел первый номер журнала. Гумилев, пришедший после занятий в редакцию, увидел целую выставку рисунков и рукописей. Стопками лежали свежие, пахнувшие типографской краской номера «Аполлона». Поздравляли друг друга. Маковский чувствовал себя именинником и предложил отметить это событие в ресторане.
Немецкий поэт и переводчик Иоганнес фон Гюнтер, постоянный сотрудник журнала, так описал это событие: «…открытие „Аполлона“ было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об „Аполлоне“ и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следует, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать „Аполлон“ от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним — затем занавес опускается.
Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.
Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей „Риге“, где утром Гумилев и я пили черный кофе и зельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза».
Выход «Аполлона» стал событием в художественной жизни России и спровоцировал острую полемику о новых течениях в поэзии, в искусстве. Элегантный, аристократичный редактор хотел и журнал видеть безукоризненным как по содержанию, так и по оформлению.
Однажды Маковский получил письмо с траурным обрезом, запечатанное черной печатью с девизом «Vae Victis!» [4] «Горе побежденным» — лат. (Прим. авт.)
. Сергей Константинович болел ангиной и поэтому принимал сотрудников у себя дома. Алексей Толстой стал свидетелем того, как Маковский, захлебываясь от восторга, говорил;
— Вы только послушайте, Алексей Николаевич, послушайте эти стихи:
Лишь один раз, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью…
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклятый круг, приди, сорви меня!
Волошин и Маковский набросились на гостя с уверениями, что только что произошло чудо. Некая светская дама прислала изумительные стихи. И какое у нее аристократическое имя: Черубина де Габриак!
Волошин знал об этой загадочной поэтессе гораздо больше, чем можно было предположить. Он уже предлагал Маковскому один ее перевод с французского, который остался неопубликованным. И если с фактологической стороны достоверна его «История Черубины», вся мистификация была задумана при его прямом участии.
Черубине немедленно был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор написала.
Поэтесса оказалась страстной католичкой. Папа Мако, как за глаза называли в редакции Маковского, вскоре получил несколько экзальтированно-религиозных стихотворений и отдельно — стихотворение «Наш герб»:
Червленый щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последний — в роде дерзких волей…
Есть необманный путь к тому,
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему.
Кем я звана, кем я любима.
И — путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни:
В нем — пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни…
Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль Розы храмы?
Тубала медную печать
Или акацию Хирама?
На следующий день Черубина позвонила Маковскому, и он принялся уверять, что определил ее судьбу и характер по почерку. Сообщил ей, что ее отец родом из Южной Франции, а мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и еще многое в таком роде.
Папа Мако избрал своим конфидентом Волошина, которому признавался: «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать». Волошин отмалчивался. Он знал слабость Маковского к элегантности, аристократичности: «Лиля, скромная, неэлегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла…»
Переписка Маковского с Черубиной становилась все оживленнее. Она вместо писем прикладывала к стихам какой-нибудь простенький цветок или даже травинку; это придавало их общению особую таинственность. Маковский в ответ писал французские стихи и требовал от Черубины свидания. В ответ она по телефону сообщала, что будет кататься на островах, и, конечно, сердце поможет поклоннику ее узнать. Маковский ехал, «узнавал», потом с торжеством рассказывал ей, что видел ее: она была в автомобиле, изысканно одетая; а она, смеясь, уверяла его, что ездит только на лошадях.
По воскресеньям Черубина посещала костел, исповедуясь у отца Бенедикта. Маковский получил стихотворение «Исповедь»:
В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.
Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.
Поправляя гребень в косах,
Я слежу свои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.
Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознанье
Первородного греха…
Интервал:
Закладка: