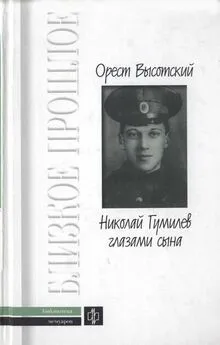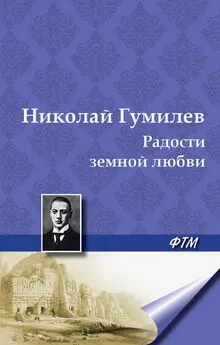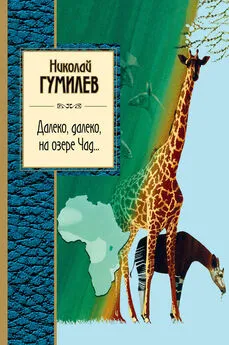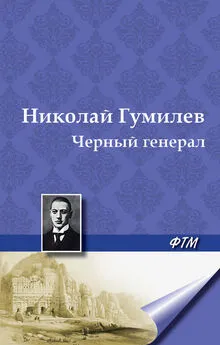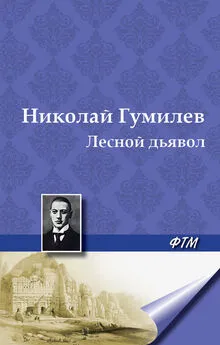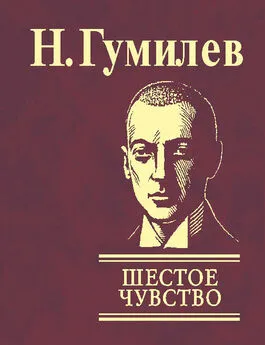Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына
- Название:Николай Гумилев глазами сына
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына краткое содержание
Ядро настоящего сборника составляют впервые публикуемые в полном объеме биографические записки о ярчайшем поэте Серебряного века Николае Гумилеве, составленные его сыном Орестом Высотским, также поэтом, до конца своих дней работавшим над книгой об отце. Вторая часть сборника — это воспоминания о Николае Гумилеве, собранные и прокомментированные известным специалистом по русской поэзии, профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом. Эти материалы Крейд расположил «сюжетно» — так, чтобы у читателя создалось наиболее полное представление о драматичной и захватывающей биографии поэта, в эпоху крушения империи воспевавшего державное отечество, отважного воина, путешественника, романтика.
Книга иллюстрирована уникальными фотодокументами.
Николай Гумилев глазами сына - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Чтобы стихотворение возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования, — писал Гумилев, — оно должно иметь мысль и чувство… Гомер, оттачивая свои гекзаметры, …счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши не стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира».
28 ноября кружок, созданный им в университете, проводил заседание, посвященное 350-летию драматурга Лопе де Вега. В последнем ряду зала сидели Гумилев, Городецкий, Лозинский, Мандельштам и Пяст. Их мало интересовал доклад профессора, и они вполголоса обсуждали, кого следует считать «предками» зарождающегося поэтического направления и как это направление назвать, чтобы полнее выразить его сущность. И тут Гумилев произнес греческое слово «акме» — «высшая степень, цветущая пора». Городецкий возразил, что незачем выискивать античное имя, когда есть русское — «адамизм», иначе говоря, «твердый, мужественный и ясный взгляд на жизнь». Под адамизмом надо понимать также простоту, возврат от цивилизации к естественному состоянию. Городецкий тогда был сильно увлечен такими настроениями.
Заседание окончилось, друзья, к которым присоединились поэт и педагог Василий Гиппиус, студенты Боткин и Кржевский — он станет видным историком испанской литературы, — посидели в ресторане на 1-й линии, а оттуда поехали в «Бродячую собаку». Там к ним примкнули Кузмин, Потемкин и художник Судейкин. На маленькой сцене артисты из «Кривого зеркала» давали веселую пантомиму; Кузмин запел «Коль славен наш Господь в Сионе», Боткин хотел говорить о Лопе де Вега непременно на староиспанском языке, ужасно этим насмешив Мандельштама.
Гумилев вспомнил, как недавно у него в Царском собралась компания поэтов, все сидели в гостиной и по очереди читали стихи, тут же обсуждая их. Совсем еще юный царскосел Всеволод Рождественский начал читать тихим и робким голосом, и вдруг раздался громкий храп. Гумилев вскочил, чтобы отчитать нарушителя, но грубияном оказался бульдог Анны Андреевны, Молли, прикорнувший на ковре у ног своей хозяйки. Все долго смеялись над этим случаем и за глаза называли Рождественского «Молли».
Споры и обсуждения программы нового литературного течения, названного его создателем «Акме», продолжались, тогда же афиша в «Бродячей собаке» оповестила, что 18 декабря 1912 года в девять часов вечера состоится лекция Сергея Городецкого «Символизм и акмеизм».
Городецкий, тщательно причесанный, во фраке и ослепительно белой сорочке, вышел на сцену, держа в руках несколько исписанных листочков бумаги. В докладе он повторил свои известные утверждения, что символизм как поэтическое течение завершил в России свой цикл развития, привел причины его упадка, иллюстрируя примерами, и отметил, что символизм не оценил одного из самых благородных своих поэтов — Иннокентия Анненского.
На смену символизму, говорил докладчик, идет адамизм: Гумилев, Нарбут, Зенкевич, Ахматова, Мандельштам… Эти поэты не парнасцы, потому что им не дорога отвлеченная вечность, они и не импрессионисты, поскольку рядовое мгновение не обладает для них художественной самоценностью. Интересуют их лишь мгновения, которые могут быть вечными, высшие мгновения человеческой жизни.
После доклада началось обсуждение, в котором приняли участие Н. Кульбин, В. Гиппиус, С. Поздняков, Д. Кузьмин-Караваев, Е. Зноско-Боровский. Из выступлений можно было заключить, что основная идея акмеизма так и не сформулирована. Поэтому идею попытался пояснить Гумилев. Он начал с утверждения, как всегда категоричного, что «символизм падает» и «все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций», что появились футуристы, эгофутуристы и прочие — «это гиены, всегда следующие за львом».
Охарактеризовав французский и немецкий символизм, Гумилев сказал, что эта мысль будет вскоре повторена в его программной статье, напечатанной «Аполлоном», что «русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Адамисты или акмеисты отвергли подобную «неврастению». Несколько лет спустя Гумилев напишет известное стихотворение, где о своем отношении к читателям он скажет:
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой.
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
В статье он сформулировал свою мысль с предельной ясностью: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма». Там же он назвал «предков» акмеизма: «В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии».
Дальше «стихии» получали обозначение: внутренний мир человека, его тело, жизнь, «знающая все: — и Бога, и порок», безупречность форм. И Гумилев заключал: «Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».
Впрочем, споры о сущности акмеизма продолжались и после доклада Городецкого, за которым последовала статья Гумилева. Сопоставляли стихи поэтов различных направлений: символистов, футуристов, имажинистов. Но каждый крупный поэт перерастает рамки своего направления, и даже те, кто провозглашал акмеизм, в своем творчестве были больше, чем акмеистами. Основной круг имен, связанных с акмеизмом, определился: Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мандельштам и Зенкевич. То ближе, то дальше от этого кружка были Нарбут и Георгий Иванов.
Своего теоретического объяснения акмеизм не получил, отметил Брюсов в статье «Далекое и близкое», где сказано: «Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо более в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит. Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы полюбить поэзию Н. Гумилева… Гумилев пишет и будет писать прекрасные стихи».
Некоторая размытость исходных установок акмеизма приводила к тому, что, характеризуя творчество его приверженцев, критика постоянно указывала на несоответствие стихов провозглашаемым принципам. Это относилось к поэзии Ахматовой. Мандельштам тоже не всегда оказывался акмеистом в точном значении слова: реальные вещи у него порой бывали связанными надрациональными ассоциациями:
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
Интервал:
Закладка: