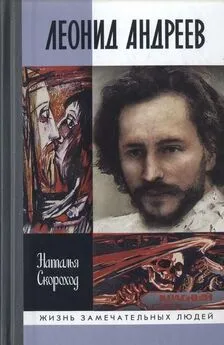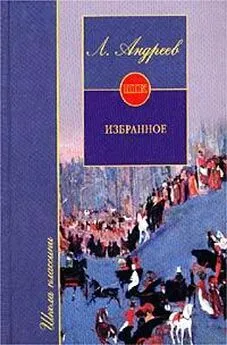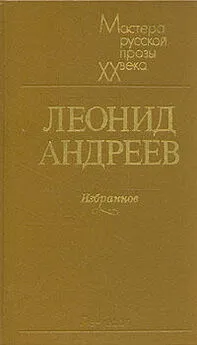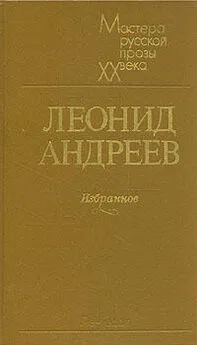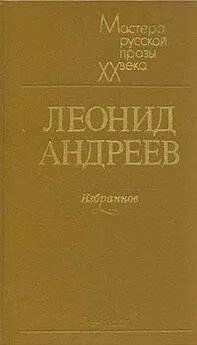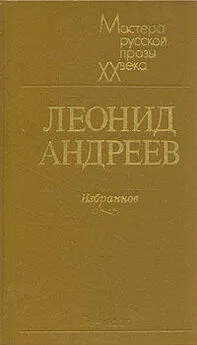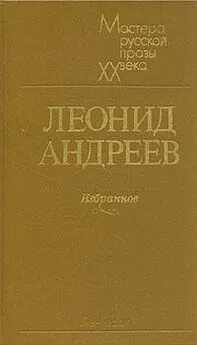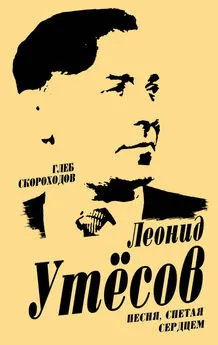Наталья Скороход - Леонид Андреев
- Название:Леонид Андреев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03518-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Скороход - Леонид Андреев краткое содержание
Книга о знаменитом и вызывающем отчаянные споры современников писателе Серебряного века Леониде Андрееве написана драматургом и искусствоведом Натальей Скороход на основе вдумчивого изучения произведений героя, его эпистолярного наследия, воспоминаний современников. Автору удалось талантливо и по-новому воссоздать драму жизни человека, который ощущал противоречия своей переломной эпохи как собственную болезнь. История этой болезни, отраженная в книгах Андреева, поучительна и в то же время современна — несомненно, ее с интересом прочтут все, кто увлекается русской литературой.
знак информационной продукции 16+
Леонид Андреев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В дальнейшем Сахновский поставит еще не одну пьесу Андреева, романтическая и даже экспрессионистская направленность его режиссуры как нельзя лучше соответствовала этим пьесам. И тут, возможно, у Леонида Николаевича появился шанс обрести, наконец, «своего» режиссера, однако низкий статус Московского драматического театра да и «вес» Сахновского конечно же мешали Андрееву воспринимать этого режиссера всерьез. И хотя, судя по его дневнику и письмам к Елене Полевицкой, играющей у Сахновского Консуэллу, драматургу многое нравилось в московском «Тоте…», известны, однако, и очень резкие его отзывы об этом спектакле. Борис Зайцев, например, утверждал, что после премьеры драматург сетовал, что пьесу его «сгубили» и главная роль — а исполнял ее будущий народный артист РСФСР Илларион Певцов — не понята.
Но, так или иначе, в тот день — а премьеру «Тота…» в Москве сыграли 27 октября 1915 года — Андреев, пожалуй, в последний раз «дышал» воздухом славы. Позже он вспоминал, что это были «чудесные дни работы, театра, народа, огней, музыки, усталости, похожей на опьянение и любовь, — московская премьера прошла как будто блестяще. — Были и овации, и восторг и крики этой самой молодежи. За время постановки и репетиций я влюбился в этого своего Тота…», а вернувшись в Петербург «возбужденным, певучим и сильным» [518] S.O.S. C. 133.
, Андреев включился в работу над пьесой в Александрийском театре. Ну и конечно же 27 ноября он пригласил на премьеру Чириковых — в надежде, что сквозь мишуру театральности до Милочки долетит его «печальный и зовущий голос».
Ложа Чириковых была рядом с той, где сидел Андреев. Слева от него белел ее профиль, на который, не отрываясь от сцены, скашивал глаза влюбленный автор «Тота…», мысленно задавая Милочке вопрос: «А ты понимаешь? Ты чувствуешь меня истинного, о котором не знают другие? Или для тебя это только театр?» [519] Там же. С. 134.
В конце концов, печальный влюбленный пришел к выводу, что та ничего подобного не чувствовала. Время от времени, наблюдая за страданиями клоуна Тота в отточенном исполнении премьера александрийской сцены красавца Романа Аполлонского, за мельканием цирковых актрис в ярких костюмах, беготней ворчащего и добродушного хозяина цирка — Кондрата Яковлева, томлением загадочной и страстной Зинины, которую с блеском играла молодая Елизавета Тиме, девушка жевала конфеты, беря их из коробки, предложенной кем-то из ухажеров. Он слышал, как в антракте Милочка смеялась над чем-то своим вместе с окружающей семейство Чириковых молодежью. И даже не зашла в ложу поздравить именитого драматурга, которому и здесь, в Петербурге публика устраивала овации после каждого действия, в финале же писателю преподнесли лавровый венок.
«Мне следовало быть величеством, а я вел себя с нею как застенчивый студент, — с тяжелым чувством вспомнит он об этом вечере через полгода. — А что в ней? Младость тела и души и в глазу желтое пятнышко, тонкая шея, худые руки» [520] Там же. С. 27.
.
Премьерный вечер в Александрийском театре больно ударил по самолюбию влюбленного, и более он уже не искал встреч с Милочкой. Вскоре Андреева поглотила работа в «Русской воле», образ девушки стал бледнеть, но окончательно не погас. В 1918 году, когда наш герой уже будет отрезан от Чириковых, находящихся к тому времени в большевистской России, он увидит Милочку во сне и перескажет дневнику всю коротенькую повесть своей — печальной и тайной — любви…
Тогда же, в 1915 году, вдохновленный новым успехом у публики — критика обеих столиц приняла «Тота…» довольно кисло — Андреев пишет новые пьесы. Летом 1916 года из старых черновиков возникает не менее призрачный и сказочный, чем «Тот…», «Собачий вальс» — поэма одиночества.
Вопреки очевидному всякий раз, когда он заканчивал пьесу, у Андреева возникала надежда увидеть ее на сцене МХТ. Его единственный союзник — Немирович-Данченко, верящий в драматургический талант Леонида Николаевича, «неудержимый и мощный», уже открыто говорит автору о «непреодолимой розни во вкусах театра и драматурга», андреевский «панпсихический человек» кажется мхатовцам надуманным, плоским, неживым. А кроме того, директор МХТ опасался, что «Собачий вальс» снова — как когда-то «Екатерина Ивановна» — оскорбит вкус публики. В репертуарном комитете императорских театров находили, что пьеса «производит при чтении жуткое впечатление». Андреев же, как всегда, увлеченный только что произведенным на свет детищем, не жалел красок, описывая его преимущества. «Для постановки, притом скорой, все удобства, — „соблазнял“ он Немировича-Данченко. — Роли крупные и всего их четыре: для призывного возраста только одна. Декорациям грош цена и неделя времени. Все — в искусстве театра, игры, в таланте, в человеческой душе. Мрачно? — но мы не куплетисты. Остро, беспокойно, тревожит, раздражает мещанина? — но мы искусство» [521] Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913–1917). Цит. изд. С. 282.
. Самое смешное, что Андреев добился своего: формально осенью 1916 года «Собачий вальс» был принят к постановке и в МХТ, и в Александрийском театре, однако сопротивление обеих сцен было столь велико, что пьеса так и не была поставлена ни в Москве, ни в столице. И более того, текст ее был опубликован лишь после смерти Андреева — в 1922-м — в Париже…
Да, автор был совершенно прав, как-то раз назвав «Собачий вальс» — странной пьесой. Она и была странной, хотя сюжет ее, казалось, не выходил за рамки рутинных драматургических схем: влюбленный жених, уход невесты к другому накануне свадьбы, три года разнообразных страданий: пьянство, казнокрадство, одиночество и как итог — самоубийство. Ее герой — со странным именем Генрих Тиле, по профессии — бухгалтер, или — как сказали бы теперь — топ-менеджер крупнейшего столичного банка, со странным происхождением — полурусский, полушвед, обустраивая семейное гнездышко, получал роковой удар: его невеста — «неверная Елизавета» вероломно нарушила все обещания и вышла замуж за московского богача. Очнувшись от удара, Генрих «законсервировал» еще не вполне отделанную квартиру, жил в ней, жег электричество, пил «коньячок», вынашивая планы кражи миллиона рублей из собственного банка. При Генрихе постоянно крутился некий Феклуша — мелкий полицейский чиновник, из которого наш бухгалтер последовательно воспитал «домашнего песика», пляшущего под звуки «Собачьего вальса», мял его душу как хотел, платя за это наличными. Нанимал ему проститутку и любовался их поцелуями на том самом диване, где когда-то надеялся строить собственное семейное счастье.
«Уподобление мира и людей танцующим собачкам, которых кто-то дергает за ниточку или показал им кусочек сахару» [522] Там же.
— так сам автор определял тему этой, в высшей степени поэтичной и загадочной пьесы. Действительно, ее действие выстроено идеально: сам Генрих Тиле, его младший брат — нечистый на руку студент Карл Тиле, вечно хнычущий друг Феклуша или неверная Елизавета время от времени ощущают себя «танцующими собачками», подчас же им кажется, что именно они — «заказывают танец» — играют для «своих собачек» пресловутый «Собачий вальс». Четыре действия пьесы отнюдь не составляют цельной картины развития характера, это — как гениально определил когда-то Иннокентий Анненский — несколько «моментальных снимков», сделанных с «внутреннего человека», а я бы добавила, что к третьему акту «снимок» с души Генриха Тиле превращается в коллаж из множества разрезанных на куски фотографий, его драматургический образ к финалу напоминает портрет в духе раннего кубизма.
Интервал:
Закладка: