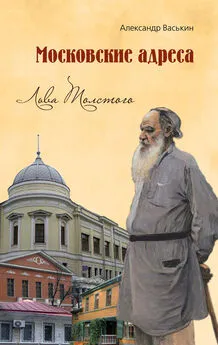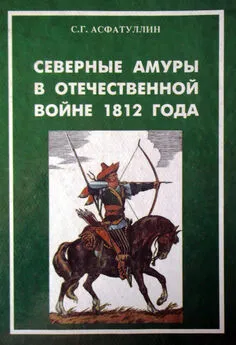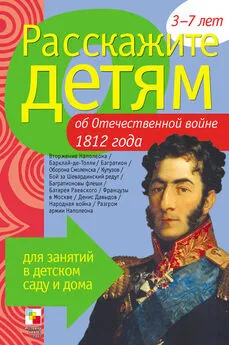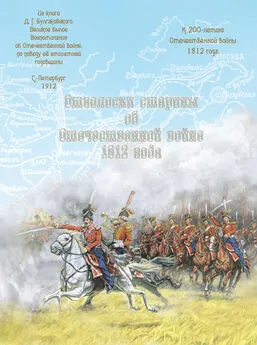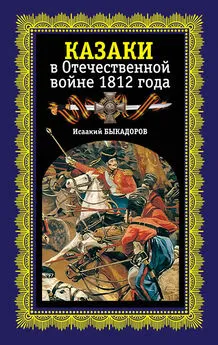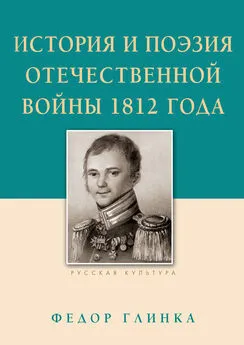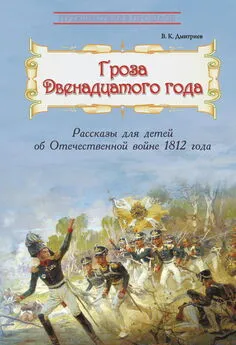Александр Васькин - Московские адреса Льва Толстого. К 200-летию Отечественной войны 1812 года
- Название:Московские адреса Льва Толстого. К 200-летию Отечественной войны 1812 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:caeccf52-1f7c-11e3-b637-002590591ed2
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9973-1700-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Васькин - Московские адреса Льва Толстого. К 200-летию Отечественной войны 1812 года краткое содержание
«Москва – женщина, она мать, она страдалица и мученица», – писал Лев Толстой в черновом варианте романа «Война и мир», подчеркивая тем самым непреходящее значение Москвы и для российской истории, и для русской литературы.
Толстой приезжал в Москву более ста пятидесяти раз, надолго оставался здесь. Вместе с известным москвоведом Александром Васькиным читатели побывают в толстовской Москве, по тем адресам, где жил или бывал писатель, – на Плющихе и Сивцевом Вражке, на Пятницкой и Воздвиженке, в Камергерском переулке и на Большой Дмитровке, на Тверской улице, в Вознесенском переулке и, конечно, в Хамовниках.
Эта книга – не только своеобразная биография Льва Толстого, относящаяся к московскому периоду его жизни, но еще и интересный рассказ о «романах» писателя с тем или иным московским зданием или улицей.
Московские адреса Льва Толстого. К 200-летию Отечественной войны 1812 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вкусив все прелести (или почти все) светской жизни, Толстой подвел самокритичный итог: «…распустился, предавшись светской жизни». Далее в письме к Ергольской он пишет о своем желании вернуться в Ясную Поляну: «Теперь мне все это страшно надоело, я снова мечтаю о своей деревенской жизни и намерен скоро к ней вернуться».
Но пишет он одно, а делает совсем другое. В конце января следующего, 1849 г. Толстой покидает Москву и едет совершенно в другом направлении – не в провинцию, а в столицу, в Петербург. Он оставляет в Москве еще и карточные долги (1200 рублей), для погашения которых рассчитывает продать часть принадлежащего ему леса.
Столичное существование, в пику московскому, уже не позволяет Льву слоняться «без службы, без занятий, без цели». Более того, оно вызывает у Толстого восторг, поэтому в письме к брату Сергею от 13 февраля 1849 г. он сообщает, что «намерен остаться навеки» в Петербурге. «Петербургская жизнь, – пишет он брату, – на меня имеет большое и доброе влияние. Она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать – все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, – одному нельзя же». Он решает, чего бы это ему ни стоило, поступить на службу.
«Мне, – пишет он тетке, – нравится петербургский образ жизни. Здесь каждый занят своим делом, каждый работает и старается для себя, не заботясь о других; хотя такая жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим браться за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности – двум качествам, которые необходимы для жизни и которых мне решительно недостает. Словом, к практической жизни».
Порядок и деятельность – это, конечно, хорошо, но вот какой случай произошел с ним в тот период. Однажды в биллиардной Толстой стал играть с маркером, проиграл ему какую-то сумму и, не имея с собой денег, чтобы уплатить проигрыш, обещал занести их на следующий день, но маркер ему не поверил и задержал Льва Николаевича в биллиардной до тех пор, пока не явился его приятель Иславин и не уплатил за него требуемую сумму.
В результате краткосрочного испытания «петербургским образом жизни» Толстой не только не поступил на службу, но и оказался, по его словам, в фальшивом и гадком положении, «без гроша денег и кругом должен».
В конце мая 1849 г. Толстой решается, наделав долгов и здесь (ресторану и лучшему столичному портному), прекратить испытание Петербургом и выехать-таки в Ясную Поляну, «чтобы экономить».
Прожив в Ясной Поляне полтора года и столкнувшись с тщетностью своих попыток улучшить жизнь своих крепостных крестьян и найти в этом смысл своего существования, Лев Николаевич вновь отправляется на жительство в Москву.
5 декабря 1850 г. Толстой приехал из Тулы в Москву. Остановился он в хорошо знакомых ему окрестностях Арбата – в доме титулярной советницы Е.А. Ивановой (№ 34), в переулке Сивцев Вражек [3].
Этот приметный каменный дом (так и хочется сказать «домик» – настолько он маленький, будто игрушечный), выходящий на угол с Плотниковым переулком, по-видимому, не слишком изменился с того времени. Построен он был в 1833 г. на месте сада некогда большой усадьбы.
Толстой нанял квартиру из четырех небольших комнат за 40 рублей серебром в месяц. В числе обстановки его очередной московской квартиры много места, как и в 1848 г., занимал рояль: Толстой любил музыку (какую именно в тот период – об этом позднее). Был здесь и кабинет с внушительным письменным столом, за которым Лев Николаевич не преминул продолжить свой дневник.
Из него мы узнаем, что Толстой осознал произошедшую в нем перемену: он «перебесился и постарел». А посему автор дневника ставит перед собою три следующие цели:
«1) попасть в круг игроков и при деньгах играть;
2) попасть в высокий свет и при известных условиях жениться;
3) найти место, выгодное для службы».
В «высокий» свет Толстой попал немедленно, тем более что многие представители светского общества приходились ему дальними родственниками. Это и московский военный генерал-губернатор Закревский, жена которого, Аграфена Федоровна, была двоюродной теткой Льва Николаевича; и троюродный дядя – князь Сергей Дмитриевич Горчаков, управляющий конторой государственных имуществ и запасным дворцом; и генерал от инфантерии, князь Андрей Иванович Горчаков, троюродный брат его бабушки, у которого отец Толстого в 1812 г. служил адъютантом, и прочие «официальные лица».
Не забывает Лев Николаевич и о творческих планах: в Москве он намерен создать первое серьезное произведение. Самое главное, что он уже придумал название – это будет не рассказ, не статья, а сразу «Повесть из цыганского быта».
Почему цыганского? Уж очень по сердцу Толстому были цыгане (и не ему одному – брат Сергей женился на цыганке). И не случайно. Не в Москву, не в Петербург, а в Тулу ездили слушать «цыганерство», как в то время говорили. Цыганские хоры Тульской губернии изумительно исполняли старинные цыганские песни и романсы. Наслушался их и Лев Толстой, причем на всю жизнь (см. «Живой труп»).
Цыгане пели свои песни «с необыкновенной энергией и неподражаемым искусством», передавал он позднее свои впечатления в рассказе «Святочная ночь». В дневниковой записи от 10 августа 1851 года Толстой отмечал: «Кто водился с цыганами, тот не может не иметь привычки напевать цыганские песни, дурно ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие», посему и рояль в квартире в Сивцевом Вражке был как нельзя кстати.
По его мнению, цыганская музыка являлась «у нас в России единственным переходом от музыки народной к музыке ученой», так как «корень ее народный». Не скрывая, что в нем живет «любовь к этой оригинальной, но народной музыке», доставляющей ему «столько наслаждения», Толстой и решается посвятить ей свою первую повесть.
Что и говорить, цель была поставлена благородная. Только вот как достичь ее, если все свободное время уходит на другое – решение уже заявленных, не менее важных первостепенных задач: выгодно жениться, выиграть в карты (и побольше), выгодно устроиться на службу? В отличие от содержания будущей повести, здесь Толстой более откровенен. Интересно, что он устанавливает для себя следующие правила поведения в московском свете: «Быть сколь можно холоднее и никакого впечатления не выказывать», «стараться владеть всегда разговором», «стараться самому начинать и самому кончать разговор», «на бале приглашать танцовать дам самых важных», «ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое».
А повесть… Почти каждый день Лев Николаевич садится за стол в своем кабинете в Сивцевом Вражке и заставляет себя приняться-таки, наконец, за сочинение. 11 декабря он отмечает в дневнике: «…писать конспект повести», затем, практически ежедневно, повторяет одно и то же – «заняться сочинением повести», «заняться писанием», «писать повесть», «писать и писать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: