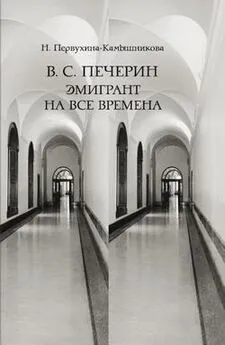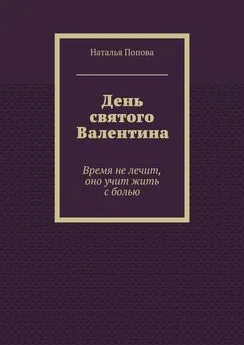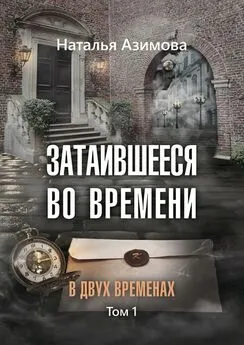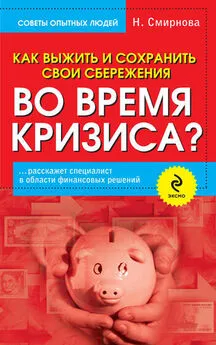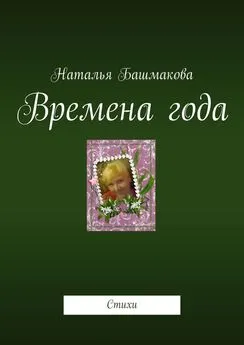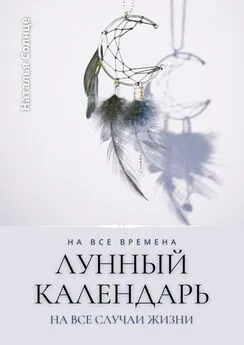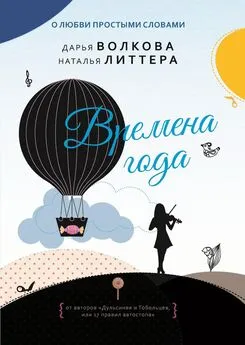Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена
- Название:В. С. Печерин: Эмигрант на все времена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0118-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена краткое содержание
Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885), поэт-романтик, демоническая фигура в «Былом и думах» Герцена, автор пародируемой Достоевским поэмы «Торжество смерти», «первый русский политический эмигрант» (Л. Каменев) и «один из первых русских интеллигентов» (В. С. Франк), русский католик, находивший опору в философии стоицизма, остался в памяти потомков, как он и мечтал, благодаря «одной печатной странице», адресованной России – автобиографическим заметкам, писавшимся в Ирландии в 1860—1870-е гг. и собранным в книгу «Замогильные записки. Apologia pro vita mea». В мемуарах Печерина отразилась история русской мысли всего XIX века, а созданный им автопортрет «лишнего человека» дополняет галерею образов классической русской литературы.
Настоящее исследование посвящено анализу сложного переплетения реального опыта Печерина с его представлениями о самом себе. Книга рассчитана на русского читателя.
В. С. Печерин: Эмигрант на все времена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таков уж обычай на Руси святой, —
Веселую песню за здравье начнем,
А после на вечную память сведем.
За сказкой следует стилизованная в европейском средневековом духе «Песня о русском воине», в которой поется о смерти русского воина, сражавшегося «за честь Марии» (королевы Португалии) и павшего «под стенами Сантарема». (Песня непосредственно связана с последними европейскими событиями – гражданской войной в Португалии (1832–1834), во время которой Сантарем, древняя резиденция португальских королей, был захвачен узурпатором престола Мигелем де Брагаца.) В предсмертной исповеди капуцину (кому еще исповедаться русскому человеку в Испании?!) русский юноша просит послать весточку невесте «на Русь святую».
Взволнованная песней Эмилия (одна из участниц февральского праздника) в свою очередь рассказывает о том, как она пренебрегла любовью русского юноши Эдмунда («Он бедный художник, поэт молодой, / А я родилася большой госпожой»), который с горя ушел в Испанию сражаться за вольность и пал на Каталонских полях. Затем вводится написанная отдельно, но включенная в поэму «Песня о графине Турн», в которой рассказывается о любви графини к егерю, неосуществимой из-за разницы общественного положения и обрекшей ее на смерть от печали. Действие второй части (видимо, представления на празднике) есть «творение юного поэта» – «Языческий Апокалипсис». Оно тоже состоит из песен и сцен и происходит в театре, который «представляет воздух и залив Ионийского моря. Вдали виден древний великолепный город. НЕМЕЗИДА, с бичом в руках, сидит на воздушном престоле, окруженная подземными духами мщения» (Печерин 1972: 477). За «столетние обиды» этот преступный город (аллегория Петербурга), в котором правит тиран Поликрат Самосский (читатель понимает, что это Николай I), волей НЕМЕЗИДЫ «должен быть разрушен», как Карфаген. Печерин соединяет библейскую традицию XVIII века, представляющую социальные потрясения в виде всемирного потопа, со старым поверьем, что Петербург погибнет от наводнения [30]. «Ветры с запада» (аллегорическое обозначение западноевропейских освободительных идей), призванные самой НЕМЕЗИДОЙ, вызывают бурю, сход северных льдов и разлив моря, которое поглощает гранитные берега, «стены крепкие дворцов», караемый не за свои грехи народ, проклинающий тирана и всю враждебную землю, после чего корабли из Ионийского моря «спокойно шли / Прямо в Индью». В авторских ремарках указывается, что «ветры улетают попарно в бурной пляске. Являются на воздухе мириады сердец, облитых кровью и пронзенных кинжалами», является хор факелов, хор из пяти звезд (намек на казненных декабристов), хор бледных теней воинов, покрытых кровью и прахом, хор утопающего народа, и, наконец, сообщается, что «Все народы, настоящие, прошедшие и будущие, соединяются со служебными духами Немезиды и вместе с ними составляют большой балет. Буря утихает – и над гладкою поверхностью моря с Востока подымается вечное солнце. Музыка играет тихий марш. НЕБО и ЗЕМЛЯ посылают взаимные приветствия».
И только после этого представляется Интермедия под названием «Торжество Смерти», которое Герцен при напечатании избрал для заголовка всей поэмы. Подымается занавес: «Театр представляет вселенную во всей ее красоте и великолепии. Большой балет: небесные тела проходят в стройной пляске, под музыку мироздания. Является СМЕРТЬ – прекрасный юноша на белом коне. (…) НЕБО и ЗЕМЛЯ и народы Земли и прочих планет сопровождают СМЕРТЬ с громкими восклицаниями: Vive la mort! vive la mort! vive la mort!» Достоевского должна была возмутить подмена мистической искупительной жертвы Христа гибелью поэта, жертвующего жизнью (и не только своей) для «счастия России» и собственной славы. Смерть в поэме (разрушение) приветствуется потому, что она необходима для воскрешения. Без смерти, без разрушения прошлого невозможно обновить мир, и свергающая «ветхого творца с престола» Смерть есть «Бог движенья, / Вечного преображенья! / Бог всесокрушающий! / Бог Всесозидающий!» Хор восклицает: «Творчески живое / Смертью расцветет!» В завершение на сцене остается поэт, автор театрального спектакля. Умирая в объятиях Бога смерти, он произносит монолог, переходящий в предсмертный бред, в котором выражены самые заветные мысли и мечты Печерина этого времени:
Давно в груди поэта рдеет
России светлая заря —
О, выньте из груди зарю!
Пролейте на небо России!
О, дайте пред кончиной
Песнь громкую пропеть!
Я с песней лебединой
Хотел бы умереть!
(…)
И счастия России
Залог вам – кровь моя!
И все грехи России
Омоет кровь моя!
Идентифицируя себя с Христом, «поэт» не видит иронии и святотатства в ожидаемой за искупительную жертву награде. Он требует:
Мое вы сердце в урну
С почтеньем положите!
И русским эту урну
В день славы покажите!
Хоругвь твоя заблещет,
Потомство, предо мной!
Мой пепел затрепещет
Под крышкой гробовой…
То есть в день славы «поэту» гарантировано воскресенье. Но на самом деле Печерин знает о своей душевной слабости, понимает ограниченность своих сил и таланта, может быть, даже предчувствует обреченность одиночеству. Поэма кончается иронической ремаркой: «Поэт, испугавшись цензуры, умирает, не докончив куплета. Занавес упадает с шумом. Для кого? Поэт был последний актер и последний зритель». Смерть актера и зрителей заставила ирландского исследователя вспомнить о пьесах Ионеско, увидеть в ней жанровые искания, близкие к модернизму и театру абсурда – «невозможная для постановки традиционным театром эсхатологическая поэма Печерина оказала влияние на пьесы Андрея Амальрика» (Мак-Уайт 1980: 120).
Поэма Печерина не была уникальным по запутанности и странности явлением. Она была написана почти одновременно со стихотворением Е. П. Ростопчиной «Нежившая душа. Фантастическая оратория» (1835) и мистериями А. В. Тимофеева «Последний день» (1834), «Жизнь и смерть» (1834) и «Елисавета Кульман» (1835). В пересказе Достоевского мотивы поэмы Печерина вместе с эпизодом стихотворения Е. П. Ростопчиной, где действует «хор неживших душ», и мистериями Тимофеева, в которых представлены «хоры» всевозможных духов и говорящих стихий, даже подают голоса бабочка и песчинка (у Достоевского – «насекомое» и «минерал»), сплавились в единую аллегорию «в лирико-драматической форме» «Праздник жизни», созданную в юности Степаном Трофимовичем Верховенским. К 1872 году, времени написания «Бесов», аллегорические мистерии тридцатых годов, лишенные какого-либо намека на реализм и жизненное правдоподобие, воспринимавшиеся сорок лет назад с пониманием условностей жанра и смысла подтекста, устарели и выявили свою книжную, заимствованную природу. Даже простой пересказ поэмы Печерина звучит пародийно, но Достоевский написал не стилевую пародию, а обнажил центральную ее идею, мысль о смерти и разрушении, как необходимом условии всечеловеческого счастья.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: