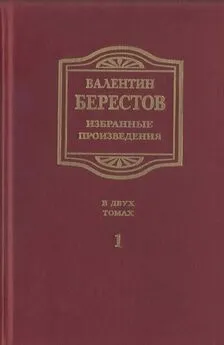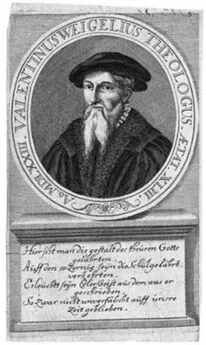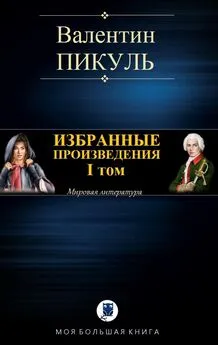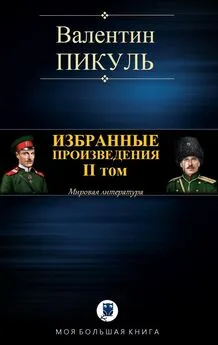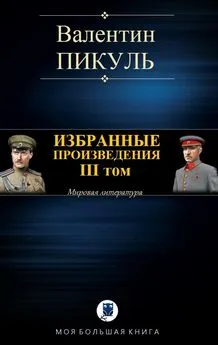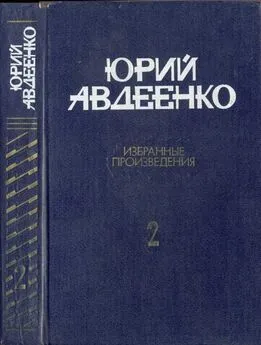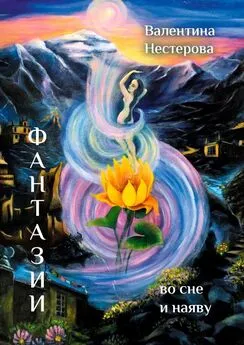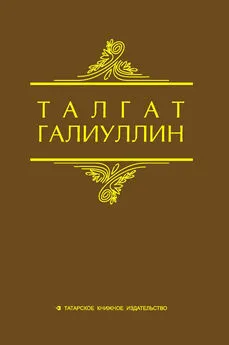Валентин Берестов - Избранные произведения. Т. I. Стихи, повести, рассказы, воспоминания
- Название:Избранные произведения. Т. I. Стихи, повести, рассказы, воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых, Вагриус
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-023-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Берестов - Избранные произведения. Т. I. Стихи, повести, рассказы, воспоминания краткое содержание
Имя Валентина Берестова широко известно читателям. Двухтомник избранных произведений — итог его многолетней работы в литературе. В первый том вошли ранние стихи, повести и рассказы об археологах, мемуары о детстве и другие сочинения.
Избранные произведения. Т. I. Стихи, повести, рассказы, воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И если уж в таких добрых, разумных людях как папа или Корней Иванович жила та обида, то до чего ж она была грозна, страшна, безумна, помноженная на миллионы, десятки миллионов глаз.
Что до незаконнорожденных, тут революция и впрямь победила: это перестало что-либо значить. Но сословные деления были, хотя с другим знаком: бывшие дворяне, люди духовного звания и их потомки очутились под подозрением. Правда, мои бабушки не останутся лишенками, сталинская конституция даст им право голоса. Но и в 1972 году, когда напечатали стихи о прабабке-дворянке, мама тревожилась, не рано ли.
Высшим благом было рабоче-крестьянское происхождение. История сыграла с ним шутку. Детей и внуков тех, кто, гордясь им, стал служащим или интеллигентом (обычное клеймо — «гнилым»), перед концом советской власти принимали в институты и в партию не так охотно, как детей тогдашних рабочих и колхозников. Система нуждалась не в биологических, а в социальных потомках.
Отдельное крестьянское сословие постепенно растворилось в рабоче-крестьянском. Часть крестьян ходило с клеймом кулаков или кулацких сынков. Мещане из сословия превратились в литературных персонажей, а их имя — в обидную кличку для людей, далеких от политики.
Происхождение в обществе, провозгласившем себя новым, продолжало многое значить. Дети вождей после ареста родителей становились детьми врагов народа. Зато появились «позвоночники» — юнцы, коих брали в институты, на престижную работу по телефонным звонкам начальства. А после войны социальные перегородки стали уступать национальным (знаменитый пятый пункт в анкете). С давних пор чуяли странность и в моем происхождении. Но никто не видел во мне, так сказать, социального полукровку. Заподозрили, что я скрытый еврей или полуеврей.
Первый раз это случилось в 1946 году, мне было восемнадцать. Михалков решил дать мои стихи в журнал. «Зачем, Сергей Владимирович» — «Будешь указывать в анкетах: „Печатаюсь с 1946 года“. В 1966-м торжественно отметишь двадцатилетие творческой деятельности!» Вызвали в редакцию поправить строки, удивились виду, манерам и стали незаметно выведывать, той ли я нации. «Псевдоним Берестов — из Пушкина, из „Повестей Белкина“? Давайте подпишем стихи вашей настоящей фамилией». Молча предъявляю паспорт. Значит, по отцу все же русский. Но сомнения не кончились: «Все равно подумают: псевдоним взят из „Барышни-крестьянки“. Поставьте девичью фамилию матери!» «Вас, — говорю, — она тоже не устроит. Телегин! „Хождение по мукам“ Алексея Толстого!» Тогда я ничего не понял. А через два года в фельетонах стали раскрывать псевдонимы: Мельников (Мельман)…
И вот пришло время, когда чиновников стала волновать знатность уже не предков, а, как говорится, данного лица. «Ваш титул?» — спросил меня комсомольский вожак, который вел концерт в Новом Уренгое. Имелись в виду писательские чины и звания. Я огрызнулся: «Барон!» Или Махачкала, выступление у студентов. Только и слышалось: «Лауреат государственной премии! Российской! Ленинской! Ленинского комсомола! Международной! Имени такого-то! Секретарь! Депутат! Член-корреспондент!» Дошла очередь до меня. «Как тебя объявить? — спросил носитель почти всех титулов Анатолий Алексин. — Что? Никаких званий? Даже диплома?» Полное смятение в президиуме. «Да объяви просто — Валентин Берестов. И посмотри, что будет», — предложил я. Отсутствие казенных титулов у единственного выступавшего привело студентов в восторг.
Но мы далеко отошли от раннего детства. Вернемся в дом Кулагина… У отцовского френча с золотыми погонами была своя судьба. Баба Катя сберегла его. «О революции она и не мечтала, свергать не собиралась старый мир… Ее победой этот был мундир». Однажды она приехала с отцовским офицерским френчем, без золотых погонов, с натертыми до блеска медными пуговицами. Это было году в 1933-м, мне было лет пять, когда живешь в мире сказок, а не политики. Моя доисторическая эпоха!
Мама и все три бабушки разглядывали френч английского сукна, щупали его, надевали на меня, как великанское пальто, босых пяток не видать. Отпороли пуговицы с двуглавыми орлами, и в пуговичных войсках, какими я играл у бабушек, рассыпая по полу содержимое шкатулок и ларцов, появились рыцари в золотых доспехах. Бабушки перекроили френч, шили, примеряли. И наконец на меня надели зеленое пальтишко. Все любовались им и мной, пока я не направился к калитке, чтобы предстать в новом наряде перед приятелями. И тут мама со старушками охнули от ужаса. Новое детское пальто сразу же выдаст чуть не белогвардейское происхождение! Как же они не подумали! Какие пойдут толки! Какие неприятности начнутся у папы! Шедевра портняжного искусства я больше не видел. Да и пуговиц с двуглавыми орлами ни в каких коробках не попадалось.
Проще всех меня разгадал в мои 27 лет Иван Сергеевич Соколов-Микитов, скорее просто русский, чем советский писатель. Послушал стихи, пригляделся к автору. «Ах, вы из Калужской губернии? Моя мама — калужанка. Калужане — народ хитрый, практичный. До сих пор ни денег, ни своего угла? Значит, калужская практичность ушла в стихи: все в них подшито, подбито, приколочено где надо. Из Мещовска? Княжество, вассальное то Литве, то Москве. Значит, предки не знали ига. Бабушка — дворянка? Так-так. А предки отца из каких крестьян? Экономических? Значит, крепостными никогда не были. Все ясно! Приезжайте-ка ко мне в Конаково».
Шпингалет
Свой оптимизм в шутку объясняю тем, что, когда меня впервые в жизни фотографировали и фотограф сказал: «Смотри сюда, сейчас вылетит птичка!», я каким-то чудом оказался единственным малышом, кого не обмануло такое обещание. Птичка вылетела! И не одна, а целых две. Это были галки. Они с криком пролетели над нашим двором. На снимке я с полным доверием к жизни гляжу вверх из плетеной корзинки-коляски.
Хорошо помню часы с черным циферблатом и белыми стрелками на нашем Благовещенском соборе. Еще не мог узнать по ним время, но часто глядел в небо. Туда, где чернели часы и блестели стрелки на фоне то солнечного сияния, то грозовой тучи, то просто серо-синих милых облаков. После войны, вернувшись в родные места, прежде всего узнавал знакомое небо, весеннее, летнее, зимнее, — оно везде разное.
Все мое раннее детство мама уверяла, что не может понять, почему я вхожу в каждую лужу на улице. А я шел и глядел в небо. Карабкался на горки, лез на деревья. Небо сквозь ветки особенно синее и обнимает голубизной каждую ветку. Потом повадился лазать на крыши. Стоял рядом с трубами, украшенными оторочкой из металлических зубчиков. Тащил за собой приятелей. Глеб Паншин прислал как-то свою книгу и в надписи на ней вспомнил, как я любил смотреть на небо с деревьев и крыш. До сих пор нет-нет да и зарифмуется: «Из-за веток, / В их просветах, / Синие глаза июля / На меня взглянули».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: