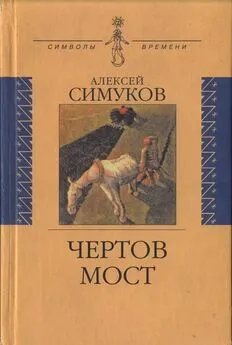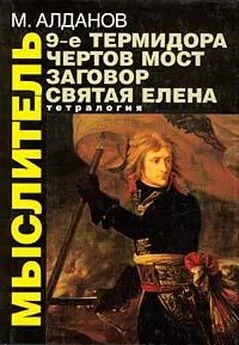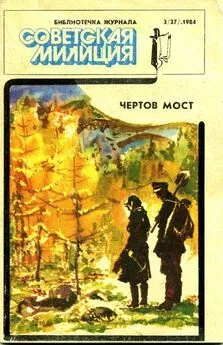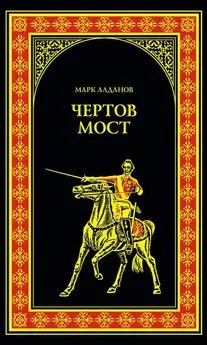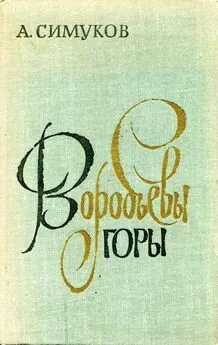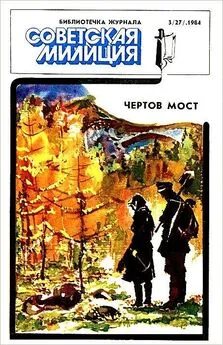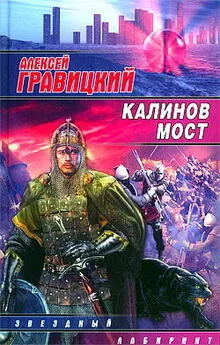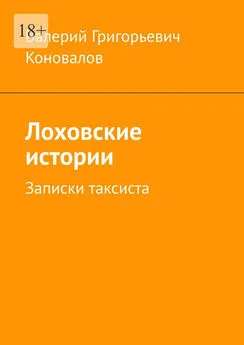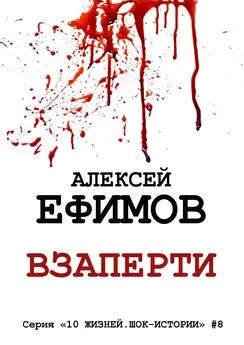Алексей Симуков - Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)
- Название:Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0262-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Симуков - Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего) краткое содержание
Предлагаемые читателю воспоминания одного из старейших драматургов и киносценаристов страны А. Д. Симукова (1904–1995) представляют собой широкую картину жизни нашего общества на протяжении почти всего XX века, а также размышления автора о театральном искусстве и драматургии. Свою литературную деятельность А. Симуков начал в 1931 г., получив благословение от А. М. Горького, в журнале которого публиковались первые рассказы молодого литератора. Его пьесы, в большинстве своем веселые, жизнерадостные комедии, «Свадьба», «Солнечный дом, или Капитан в отставке», «Воробьевы горы», «Девицы-красавицы», пьесы-сказки «Земля родная», «Семь волшебников» и многие другие широко ставились в театрах страны, а кинофильмы по его сценариям («Волшебное зерно», «Челкаш», «По ту сторону», «Поздняя ягода» и другие) обрели широкую известность. В 60–70-е гг. А. Симуков много и плодотворно работал в области мультипликации. Он автор сценариев целой серии мультипликационных фильмов по мотивам древнегреческой мифологии, вошедших в «золотой фонд» детских программ: «Возвращение с Олимпа», «Лабиринт», «Аргонавты», «Персей», «Прометей», а также мультфильмов «Летучий корабль», «Добрыня Никитич», «Садко богатый» и других, любимых не одним поколением зрителей.
Большой раздел посвящен работе автора в Литинституте им. А. М. Горького, в котором он вел семинар по проблемам современной драматургии, преподавал на Высших литературных курсах и выпестовал в 60-е гг. многих молодых драматургов, получивших из его рук «путевку в жизнь». Ему принадлежит пальма первенства в «открытии» таланта Александра Вампилова и помощь в профессиональном становлении будущего классика российской драматургии.
Воспоминания, несомненно, будут с интересом встречены читателями. Возможно также, что его размышления о театре и драматургии помогут молодежи, избравшей этот вид искусства своей профессией, быстрее овладеть ее секретами. Во всяком случае, именно это было заветной мечтой автора, когда он работал над своими «Записками неунывающего».
Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последняя новость, это уже начало 90-х. Редакторша вместе с дочкой поехала к Антохину в Штаты и там осталась. Молодец Антохин! Позаботился! Позднее Толя стал профессором русской литературы на Аляске.
Просто — Саша. Вампилов [119] Опубликовано в книге: Александр Вампилов. Дом окнами в поле. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982.
Хочу закончить рассказ о своих студентах страницами, посвященными моему слушателю на Высших литературных курсах Саше Вампилову.
Первый раз я встретился с Сашей Вампиловым на семинаре драматургов, пишущих для телевидения, зимой 1964 года в Малеевке, под Москвой. При распределении участников семинара Вампилов оказался в моей группе. Как сибиряк он сразу же вызвал у меня интерес, некое ожидание, так как все, связанное с Сибирью, настраивало меня на встречу с чем-то особенным, ярким, приманчивым.
Саша при встрече показался мне именно таким, хотя бы по своей внешности. Шапка густых вьющихся волос, чуть монгольский разрез глаз, смело очерченный рот с какой-то постоянной, слегка загадочной улыбкой.
Приехал он на семинар с одноактной пьесой. Первоначальное ее название «Сто рублей новыми деньгами» я сразу забраковал, предложив другое, которое прочно закрепилось за ней. Я имею в виду пьесу, входящую ныне в дилогию «Провинциальные анекдоты» под названием «Двадцать минут с ангелом».
Пьеса мне очень понравилась, хотя по сравнению с нынешней редакцией она сильно отличалась как размером, так и составом действующих лиц. Их в ней было четверо — два тунеядца, Несудимов и Белоштан, квартирохозяйка и хороший человек Лопатин. У тунеядцев жесточайшее похмелье. Им необходимо «поправиться». Денег нет. Просят у квартирохозяйки. Безрезультатно. Выпить просто необходимо, муки их трудно описать. Один из них, высунувшись в окно, кричит: «Граждане! Выручайте! Срочно необходимо сто рублей!» И чудо происходит. Появляется некто Лопатин и предлагает просимые деньги. Наши герои кидаются было на деньги, но воспитанные обществом на принципе «ты мне, я — тебе» осведомляются, что с них за эти деньги потребуют. Лопатин удивлен. Он предлагает деньги бескорыстно. Но Несудимова и Белоштана не проведешь. Они требуют ответа. Лопатин недоумевает. Сцена доходит почти до физических действий в отношении Лопатина. Он уходит, оставив деньги, а наша пара смотрит на них как на некое ядовитое вещество. Они не верят в человеческое бескорыстие.
В процессе дальнейшей работы пьеса была начисто переписана Сашей, хотя основная ее мысль о том, что, оказывается, нелегко делать людям добро бескорыстно, просто по доброте души, уже тогда была ярко в ней заявлена.
Думаю, что решительной переделке пьесы в немалой степени способствовала моя попытка предложить ее журналу ВЦСПС «Клуб и художественная самодеятельность», где я был членом редколлегии с 1955 по 1977 год. Я потерпел тогда сокрушительное поражение, и ряд высказываний по поводу пьесы, имевших характер почти анекдотический, несомненно, лег в основу нового варианта.
Надо сказать, что наибольшей несообразностью пьесы моим коллегам показалось основное ее положение — возможность бескорыстного добра, без всякого за него ответного возмещения, то есть именно то, ради чего она была написана. Товарищи выступали горячо, убежденно, обвиняя автора в незнании жизни, в неправдоподобии выбранного сюжета, не замечая при этом, что их убеждения являли собой грустную картину отрицания идеи бескорыстного добра.
Высказывания эти, конечно, повлияли на Сашу. Но главный вопрос, ответа на который добивались оппоненты, — почему так охотно откликнулся на просьбу двух совсем ему не знакомых людей случайно проходящий мимо агроном Лопатин. На этот вопрос Саша решил ответить.
С точки зрения драматургической выдумки задачу свою он выполнил блестяще, найдя убедительную причину, почему теперь уже не Лопатину, а Хомутову так хотелось расстаться со своими деньгами, которые жгли ему руки. Однако история вины Хомутова, пусть отлично придуманная, заставила несколько отойти в сторону от великолепной обнаженности философской проблемы в прежней редакции пьесы. Совершенно случайно у меня сохранился первый ее вариант со следами авторской правки.
Наши дружеские отношения с Сашей, начавшиеся на телевизионном семинаре, продолжались и упрочились во время пребывания его на Высших литературных курсах при Литинституте, где он был в моем семинаре. К этому времени относится, в сущности, наиболее активный период творческой деятельности Александра Вампилова. Им были написаны три пьесы — «Прощание в июне», «Старший сын» и «Утиная охота». «Прощанию в июне» повезло поначалу больше остальных вампиловских пьес — она была напечатана в специальном номере журнала «Театр» (№ 8 за 1966 год), посвященном творчеству молодых драматургов, начала кое-где ставиться. Как дорогая память хранится у меня оттиск пьесы с посвящением мне, там говорится о первом блине, появление которого он связывал с моей помощью, считая себя моим учеником — слова, для меня крайне лестные, а после смерти Саши вызывавшие глубочайшую грусть…
Разве можно было предположить в то время трагический по своей нелепости исход этой прекрасной жизни?
Дни у каждого из нас шли тогда полные забот и всяческих препятствий, которые мы в меру сил преодолевали. Не обделила ими судьба и Сашу. Борьба эта воспринималась нами нормально, житейски, хотя нередко очень чувствительно била по карману.
Как-то, роясь у себя в письменном столе, я нашел в углу ящика конверт с Сашиным письмом относительно наших хлопот по выпуску в свет его пьесы «Предместье», которая потом стала называться «Старший сын». Мог ли я подумать, получив тогда письмо Саши и сунув его в стол, что через двенадцать лет его с благоговением, как живое свидетельство тех лет, будет рассматривать молодая женщина из Германии, театровед, специально приехавшая в Москву за материалами для диссертации о творчестве теперь уже всемирно известного драматурга Александра Вампилова.
Письмо было вызвано крайним его беспокойством о судьбе пьесы «Предместье» и связанными с этим денежными осложнениями.
С «Предместьем» же дело обстояло так: с молодым драматургом, уже заявившим о себе «Прощанием в июне», был заключен договор на новую пьесу. Когда же она была написана, дальнейшее ее продвижение нежданно застопорилось. Мой начальник, П. Тарасов, был поражен жестокостью, как он выразился, основной ситуации пьесы. На все мои попытки как-то смягчить его позицию, он неизменно отвечал:
— Как же Бусыгин говорит, что он сын Сарафанова, когда он на самом деле не его сын? Откуда такая жестокость?
В пылу защиты Сашиной пьесы мне казалось, что говорить подобное — верх непонимания пьесы, не только пьесы, но и драматургии вообще. И лишь потом я понял, что даже в абсолютно неприемлемой для себя критике нужно уметь найти зерно здравого смысла. Но об этом позже. Пока же я безуспешно сражался, чем и было вызвано Сашино письмо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: