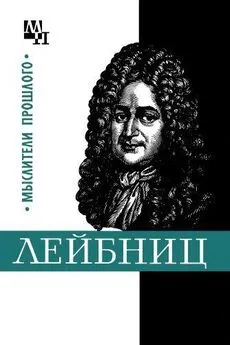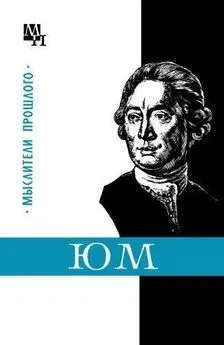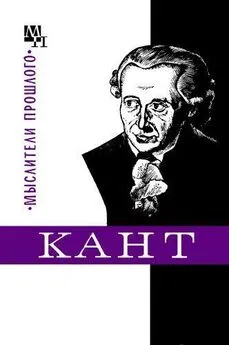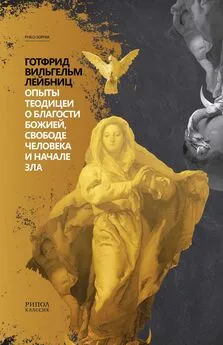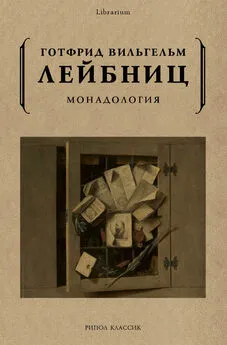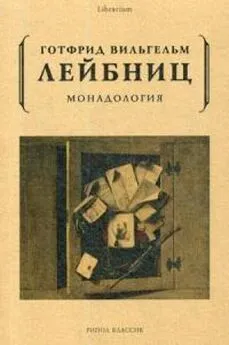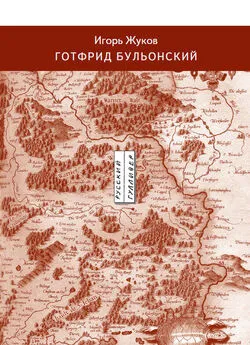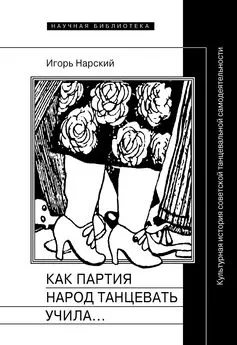Игорь Нарский - Готфрид Лейбниц
- Название:Готфрид Лейбниц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Нарский - Готфрид Лейбниц краткое содержание
В книге дается анализ метода и философской системы Лейбница, мыслителя, предвосхитившего многие философские и научные идеи XIX–XX вв. Автор разбирает основные произведения Лейбница, излагает его учение о бытии, теорию познания, этику.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей философии, а также историей науки.
Готфрид Лейбниц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Философ полагает, что «действия случайные вообще и действия свободные в частности не становятся поэтому необходимыми в смысле безусловной необходимости…» (6 г, с. 323). Не в том дело, что случайные поступки человека не детерминированы мотивами: немотивированных решений и поступков нет и быть не может, чтобы у Буриданова осла не появилось каких-то «мотивов» (4, с, 174). Но их детерминация теряется в бесконечной массе мелких фактов, не носит существенного характера. При этом Лейбниц как идеалист всюду видит в конечном счете духовную детерминацию, и идеализм заставил его здесь пойти на все более шаткие построения.
Распространение детерминации на всю бесконечную Вселенную подрывало ортодоксальные представления о роли бога в мире как свободного его властителя, католический догмат свободы воли человека утратил абсолютность, а протестантские его ограничения вплоть до учения о предопределении — свой сугубо религиозный смысл. Чтобы избежать резкого разрыва с христианским вероучением, Лейбниц ввел три различные необходимости, соответствующие трем видам зла и добра: а) метафизическая , или логическая, согласно которой существует только то, что логически непротиворечиво, а противоречивое невозможно; б) физическая , относящаяся к миру явлений, совпадающая с физической каузальностью; в) нравственная. Последняя охарактеризована Лейбницем как особый вид с целью избежать подчинения бога метафизической, т. е. субстанциальной, необходимости: бог будто бы свободно избирает лучшее решение, согласно которому из всех возможных миров реализуется только один, но, будучи идеальным в нравственном смысле, должен был поэтому санкционировать существование именно наилучшего из всех возможных миров и не мог поступить иначе (5, с. 87).
Соответственно бог не насилует воли людей и ни к чему их не принуждает, но будто бы «склоняет» их к определенным решениям и поступкам (4, с. 155; 3, с. 284), и в конечном счете человек, влекомый сначала своими слепыми телесными аффектами, а потом необходимостью морального выбора, движется к той самой цели всеобщего прогресса, которую провидение имело с самого начала в виду.
Но синтеза свободы и необходимости в философии Лейбница в конечном счете так и не получилось, и понятие нравственной необходимости, т. е. «склонности без необходимости», заменяющее логическую детерминацию психологической, хотя и оставляет формальную возможность совершения иных поступков, фактически не выводит за пределы фатализма «предустановленной гармонии».
Дело в том, что бог, если его понимать как то, что объемлет всю Вселенную, оказывается в тисках фатализма, поскольку расшатывающая фатализм бесконечность заключена в нем самом и превращается в некую идеальную «конечность». К тому же нравственная необходимость оказывается у Лейбница даже сильнее всякой другой, коль скоро она господствует над всеми ими, и «фатализм» физического мира, как и предустановленная гармония мира духовного, оказываются всего лишь ее следствиями (в отличие от структуры видов зла, где моральное зло, наоборот, производно от зла метафизического). Лейбниц подметил, что путь к верному решению проблемы свободы и необходимости лежит через анализ бесконечности, но «замкнутая» в боге бесконечность предметом эффективного анализа быть не может. Таким предметом должна быть бесконечность материального мира, но именно она осталась вне анализа философа, хотя он и высказал немало интересных соображений о бесконечности математической.
VIII. Теория познания
Критерии истины
Развитие монад есть саморазвертывание заложенного в них знания. Поэтому Лейбниц приемлет теорию врожденных идей, сторонниками которой были Платон, а в новое время картезианцы и кембриджские платоники.
Согласно Лейбницу, содержание опыта и категории, используемые для его обработки (3, с. 193), врождены так же, как и ощущения и чувства, инстинкты, знания и наклонности поведения (4, с. 72, 87). Короче говоря, мы «врождены самим себе» (4, с. 93).
Таким образом, врожденным оказывается как чувственное, так и теоретическое познание, и, обладая им, человеческая душа — это не tabula rasa, но бесконечно содержательный мир. Этот тезис Лейбниц довольно тонко аргументирует, противопоставляя его взглядам как Декарта, так и Локка. Он упрекает Локка в непонимании самодеятельности души, а Декарта — в упрощенном ее понимании. Используя образное сравнение, он пишет, что душа подобна белому мрамору, в котором скрываются прожилки и неоднородности (4, с. 75; 3, с. 193), и для того, чтобы выявить их, нужны усилия резчика по камню и ваятеля. Нам врождены задатки знания, тенденции и неосознанные установки к той или иной деятельности (4, с. 80, 102; 3, с. 92, 180, 190), и сделать их из виртуальных актуальными можно только путем напряжения внимания, воспоминания и обучения, вообще образования. «Идеи и истины врождены нам подобно склонностям, предрасположениям, привычкам или естественным потенциям» (4, с. 49), так что прирожденное еще не есть познанное. Локк, с точки зрения Лейбница, прав, что в душе при рождении нет знания истин, но он не прав, отрицая наличие в ней потенциального знания. «Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях, кроме самого разума (nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus)» (4, c. 100–101). Этому учению соответствует взгляд на происхождение познавательных ошибок — они проистекают не столько от чувственных иллюзий, сколько от погрешностей в рассуждениях и от слабости памяти.
В критике предшественников Лейбниц не всегда справедлив. Декарт не утверждал, что новорожденный младенец осознает вечные истины и что будто бы только неумение говорить мешает ему сообщить о них. Он принимал существование истинных идей, о которых прежде не думал ни один человек на свете (64, р. 69). «Под врожденностью идеи, — отвечал он на 10-е возражение Гоббса, — мы понимаем лишь то, что у нас есть способность вызвать ее» и в разуме заложены лишь «как бы зародыши (semences) постижимых для нас истин» (52, с. 465). Таким образом, отличие Лейбница от Декарта меньше, чем могло показаться.
Что касается Локка, то он, как и Лейбниц, указывал на различия в способностях и задатках, полученных людьми от рождения (см. 54, с. 224). Конечно, материалист Локк гораздо более прав, чем Лейбниц, ибо в отличие от последнего он отрицал врожденность знаний и был в этом, безусловно, прав. Прав он был и признавая наличие наследственной информации , составляющейся из некоторых анатомо-физиологических предпосылок, тогда как в учении Лейбница о «потенциях» смешаны некоторые зачаточные «знания», способности, а также то, что ныне мы обозначаем как безусловные рефлексы . Весь этот комплекс разнородных соображений был им истолкован в духе идеализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: