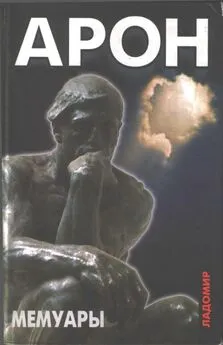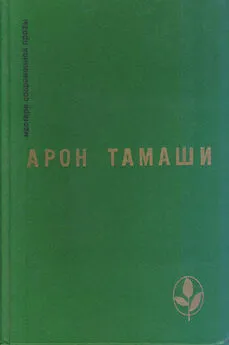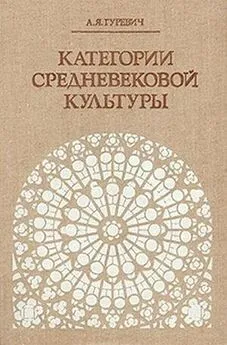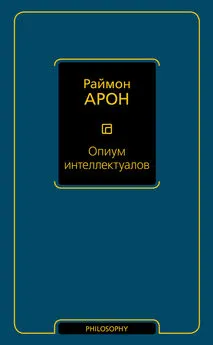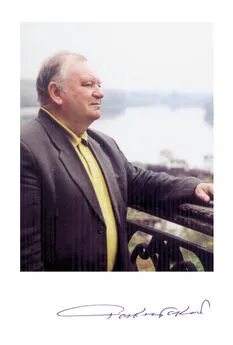Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике
- Название:Мемуары. 50 лет размышлений о политике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-241-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике краткое содержание
Эта книга — повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования.
Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.
Мемуары. 50 лет размышлений о политике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Сорбонне в 1924–1928 годах социологию преподавали Поль Фоконне и Селестен Бугле, один — правоверный ученик Дюркгейма, другой — тоже его ученик, но «вольнодумец», менее «социологичный»; ни тот, ни другой не пробуждали в студентах призвания. Ни у того, ни у другого профессора не было ассистентов. Студенты Эколь Нормаль, полные чувства собственного превосходства, не посещали лекций в Сорбонне. Мне же приходилось время от времени ходить на лекции С. Бугле, ибо, как я уже говорил, мне предстояло сделать доклад об историческом материализме.
Разумеется, я прочел великие книги Дюркгейма и его учеников, но они не высекли искру из моей души. В студенческие годы меня приводил в восторг то Кант (на худой конец Декарт), то Пруст (или, может быть, Достоевский — но не уверен). В одном случае я избавлялся от себя самого, от своих сомнений, от чужого мнения, полностью совпадал со своим разумом или интеллектом. В другом случае, читая «В поисках утраченного времени» («A la recherche du temps perolu»), я снова открывал сложность жизни, рабство, в котором нас держит чужое мнение, неизбежность разочарований. Я сохранил культ Пруста, хотя не перечитывал его роман много лет. Кант или Пруст, трансцендентальная дедукция или салон госпожи Вердюрен, категорический императив или Шарлюс, сверхчувственное или Альбертина. Ни «Общественное разделение труда» («La Division du Travail»), ни «Самоубийство» («Le Suicide»), ни «Элементарные формы религиозной жизни» («Les Formes élémentaires de la vie religieuse») не трогали мое сердце. Всего лишь предметы изучения, о которых я рассуждал в случае необходимости. Хороший агреже философии в мое время рассуждал о чем угодно.
Боюсь, что опять упрощаю. Кроме Канта и Пруста, была еще политика. Я почти никогда не говорил о ней с Сартром, Низаном, Лагашем или даже Кангилемом, немного чаще с менее близкими приятелями, скорее с друзьями Робера, с которыми иногда виделся, чем со своими. Политика пробуждала во мне пылкие чувства; еще долго после моего германского опыта меня захватывали страсти толпы в публичных собраниях. Вспоминаю об одном митинге в начале правления Левого блока в 1924 году: сначала говорит Ж. Поль-Бонкур — овации. За ним вступает Э. Эррио: «Он смолк, но все еще слушают» — новые овации. Признаюсь, к своему стыду, что уже много позже меня ослепило красноречие Марселя Деа, совсем не похожее на манеру Поль-Бонкура или Эдуара Эррио, более аргументированное, менее эмоциональное, при том что его речь лилась необыкновенно легко [41]. Однако увлечение политикой в моих глазах было равнозначно слабости, склонности Аронов к легким решениям.
Социология Дюркгейма не затрагивала во мне ни метафизика, каковым я желал быть, ни читателя Пруста, стремящегося осознать комедию и трагедию людей в обществе. Формула Дюркгейма «Бог или общество» коробила или возмущала меня. Объяснение самоубийств статистическими соотношениями оставляло меня неудовлетворенным. Нравственное воспитание, которое исходит из потребностей общества, казалось мне возражением католическому воспитанию, и возражением неубедительным по той простой причине, что общество не представляет собой сегодня связного целого.
В настоящее время к неодюркгеймизму примешивается некий марксизм: на место общества в качестве высшей инстанции ставится господствующая идеология. Такого рода социология подсказывает интерпретацию коллективной жизни, в некоторых отношениях близкую дюркгеймовской. Дюркгейм предполагал общество настолько единое, что одни и те же ценности могли иметь значение для всех классов. Те, кто употребляет понятие «господствующая идеология», описывают классовое общество; они подчеркивают всесилие господствующей идеологии и тем самым принижают авторитет морали, приписывая его привилегированным или стоящим у власти слоям. Дюркгейм, напротив, надеялся вернуть морали утраченное ею влияние на умы. Разоблачение господствующей идеологии точно так же заставляет меня призадуматься, как и обожествление общества. Одна и та же теория не годится для тоталитарных и либеральных режимов.
Почему Макс Вебер в отличие от Эмиля Дюркгейма пробудил во мне интерес, порой доходивший до страсти? В 1931 или 1932 году я был более готов к восприятию нового, чем между 1924-м и 1928-м. Тогда я был студентом, я еще не ушел в свободное плавание от семьи, французского пространства и университетских банальностей. Макс Вебер также объективировал действительность, которую переживают люди в обществе, объективировал людей, но не «овеществлял» их, не игнорировал ради верности методу рациональность, которую люди придают своей деятельности и своим учреждениям (Дюркгейму на самом деле лучше известны побудительные мотивы действующих лиц, чем можно предположить из его методологии). Что меня покоряло у Макса Вебера, так это его в и дение всемирной истории, освещение оригинальности современной науки и размышления об историческом и политическом бытии человека.
Его исследования, посвященные великим религиям, захватили меня; понятая таким образом социология сохраняла лучшее из своего философского происхождения. Она ставит себе задачу воссоздать смыслы, которыми люди наделяли свое существование, и институты, благодаря которым сохранились, перешли к новым поколениям и воплотились в ритуалах религиозные послания, прежде чем их потрясли, обновили и внесли в них свежую струю пророки. Возможно, социология религий Макса Вебера не противостоит Дюркгеймовой в такой степени, как мне представлялось полвека тому назад. Но, читая Макса Вебера, я слышал гул и ощущал подземные толчки нашей цивилизации, различал голоса иудейских пророков и их комическое эхо — завывания фюрера. Либо бюрократия, либо харизматический авторитет демагога — эта альтернатива повторяется из века в век. В 1932–1933 годах я впервые нашел в размышлениях социолога, который был также и философом, свои собственные сомнения и надежды.
Дюркгейм не помог мне философствовать в свете социологии. Гражданская миссия, которую он взял на себя, — противопоставить светскую мораль пришедшей в упадок морали католической — оставляла меня равнодушным, чтобы не сказать больше. Человек дисциплины, строгой нравственности, кантианец в жизни и в книгах, Дюркгейм, несомненно, вызывает уважение. Возможно, он был прав, полагая, что революции не приводят к глубокому изменению общества и скорее производят много шума, чем приносят благо. В 30-х годах меня волновали марксизм и Советский Союз; национал-социализм угрожал Франции и еврейству во всем мире. Социология, безразличная к трагизму революций, парила в облаках над нашей действительностью. Макс Вебер не игнорировал ни общественные системы, ни фатальные и непоправимые решения, которые принимают люди, олицетворяющие судьбу. Его философское сознание помогло объединить значение длительности и значение мгновения, социолога и человека действия. Благодаря ему мой замысел, смутно забрезживший на берегах Рейна, облекался в плоть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: