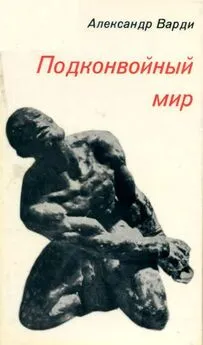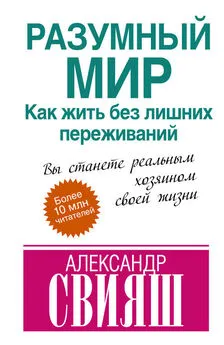Александр Варди - Подконвойный мир
- Название:Подконвойный мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Посев
- Год:1971
- Город:Франкфурт-на-Майне
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Варди - Подконвойный мир краткое содержание
Беллетризованные воспоминания бывшего заключенного, эмигранта, многие годы собиравшего фольклор сталинских лагерей.
Подконвойный мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Отступали мы, — рассказывал, — поодиночке летом 1941 года. Спасались, кто как мог. Набрёл я на окопчик в степи. Смотрю: сидит интеллигент. Очки, морда холёная, лоб с фантазией и обматывает левую ладонь мокрыми кальсонами. Под кальсонами — дощечка. Все честь честью, чтоб не догадались, что самострел. Только он это винтаря приставил и, зажмурясь, рукой дрожащей собачку нашарил, я — как гаркну. Он и сел, обомлел. Я — к нему. Обшарил. Смотрю: партийный билет, удостоверение: заведующий районным земельным отделом. Очнулся он, в ногах валяется, просит, чтоб не выдавал. Забрал я у него планшетку — понравилась, мотнул слегка сапогом в рыло и поканал. Чувствовал, что зверь во мне пробуждается, кровь клокочет как суп в горшке. После пожалел, что не тюкнул. От таких вся чернуха в жизнь пёрла: кампании, садиловки. Всюду фронты и со всеми борьба. С каждой Марфой борись: «На капустном фронте», «на сорняковом фронте» — всюду человеку юшку пускают и жилы выматывают.
Вспомнил, что дядьку моего по злобе раскулачили. В топь к комарам и мошке на съедение заслали и утопили весь спецпосёлок весной, когда река разлилась. А я дюже любил тётку — добрую, душевную, красавицу. Хотел опять разыскать этого лобастого — тюкнуть, да только «Юнкерс» налетел, по мне — одиночке — строчить начал. Ну и остыл, забылось.
Пивоваров не мог отделаться от впечатления, что Солдатов не чужие слова передаёт, а о себе, о пережитом рассказывает. Уж больно смачно, от души, интимно речь он вел.
Пока Солдатов рассказывал, никто не заметил, как подсел сбоку в сумраке нар дневальный барака — ражий, свирепого вида мужчина, державшийся атаманом. Все работы, входившие в обязанности дневального, выполняли по очереди обитатели барака под строгим присмотром этого дневального. Он неожиданно вступил в беседу, когда Солдатов замолк.
— В годы войны славная житуха пёрла, — говорил он со злорадным упоением. — Бей, кого хошь. Все разбрелись: каждый норовил в укрытие к жинке чужой, иль, на худой конец, к своей, в плен или в советский тыл. Начальство характер мой унюхало и в заградотряд определило. Стреляешь, бывало, до отвращения. Надоест, так бьешь только остервенелых — таких как сам, кто тоже мерз на финском фронте и в Польше, кто пятки и душу стёр в окружении. Я, вот, как в 1937 году призвали в армию, так и воли не видал. Войны, плен, лагеря немецкие, потом советские. В изменниках родины сейчас хлябаю. И так без конца.
— Хорошо было на войне, — продолжал дневальный, — любого, кто наперекор, кто не нравится, слово не так вставил, нутро твое поколыхал, — стукнул в удобный момент и крышка. Всё с рук сходило. Даже на подозрении не был. Бывало, сапоги приглянутся или, скажем, фляжка, или охоч я был до маленьких дамских пистолетов, а то кусок хлеба взять надо — тюкнул дружка и порядок. Вырвал хлеб и пошел.
Голос дневального все больше наливался утробной ненасытной злобой. Говорил он негромко, но каждое слово, как отравленный клинок, вонзалось в сердца слушателей.
— Знаю одно: все враги, каждый сделает самое худшее, на что способен. Одно задерживает человека: страх кары. Убивай каждого, кого можешь убить! Бей, падла, иначе он тебя, мусор, определит. Бей за то, что по земле ходит, за всю жизнь затравленную. Человек — враг, хорош только мертвый.
— Что вы говорите! — раздался отчаянный возглас Пивоварова. — Не верю! Вы клевещете на себя. Так жить нельзя. В жизни еще будет хорошее, светлое, доброе.
— А… клякса, суп, развел канитель, — ощерился дневальный.
В горле его заклокотала выхаркиваемая из чрева, изумлявшая своей немыслимой похабностью, отчаянная новоблатная ругань.
— Все вы будущим соблазняете: кто на небе, кто на земле; а — вчера, а — сегодня?! Я один раз живу и никогда больше молодым, добрым, чистым не буду.
Рывком он поднялся с нар и, хлопнув дверью, вышел.
— Верьте ему, — обратился к Пивоварову Журин, — перегорели многие, перемучились, потеряли облик человеческий.
— Да не многие же, Сергей Михайлович, — отчаивался Пивоваров. — Ведь это одиночки, отбросы.
— Вы тоже — отбросы? — посуровел Журин. — Подумаешь провинился — за Эйнштейна заступился. Меня обвинили, что дважды не то и не так сказал наедине двум людям и при этом измыслили обвинение. Домбровского на склоне лет приволокли из Варшавы за то, что был социалистом-марксистом. Пожилой человек. После советской оккупации Польши жил тихо. Не выходил за пределы своего садика. Отказался от общественной деятельности и, главное, — он ведь не советский подданный. Всех нас без дела в отбросы зачислили и мы только начали жизнь в помойках.
Дневальный пятнадцать лет в неволе, боях, голоде. Небось человечину ел. Пробился сквозь такой ужас, что мы бы не вынесли. Посмотрим, какими мы станем после лет такого пути. Еще учти: здесь часто раскрываются души. Выскакивает затаенное и от того, что нервы сдают, и от того, что терять нечего. Жизнь ощущаешь как бремя, освободиться от которого не хватает воли.
— Кремень — мужик этот Дронов, — не то одобрительно, не то завистливо обронил Солдатов.
От зарешеченной и замкнутой, чтоб не украли, электролампочки сквозь дым и пар едва пробивался скудный свет. Низкий хриплый говор перекрывался руганью, выкриками, дурными голосами говорящих во сне.
Пивоварову не спалось. Привычно посасывал голод. До утренней пайки надо было ждать часов десять, а последний глоток горько-соленой трески он сделал часов шесть тому назад, в пятнадцать часов.
— День за днем, — вспоминал он слова Василенко в очереди к кухонному окошку, — единственный источник животного белка — кусочек горько-соленой ржавой трески или камбалы с промерзшим хлебом, который, оттаяв, становится замазкой, прилипающей к нёбу, вязнущей в зубах.
Все дальше качалась и, мигая, уплывала в серую муть зарешеченная плененная лампочка.
— Я весь с тобой, Танюша, — шептал, как молитву, Пивоваров. — Никого и ничего не знаю, не помню, не хочу. Ты одна — моя любимая, моя прекрасная, ушедшая. Я счастлив, что в стужу и всхлипы пург, когда леденит непомерная, потусторонняя, с ног сшибающая тоска, тебя я вижу, тобой грежу, тебя касаюсь благоговейными устами, встаю и бреду к лучезарному миражу мечты…
— Подымайтесь, гады! Подъёма не слыхали?! — орал нарядчик черной, гнилозубой глоткой. — Через полчаса к вахте без последнего вылетай! Последнему битки в дверях. Филонам — карцер, интеллигентным симулянтам — придуркам — барак усиленного режима — БУР. Ясно? Дважды не повторяем.
Пивоварова и Журина послали пилить дрова за зону.
Было еще темно. К черному горизонту мчалась луна — замерзшая, поблекшая с подбитыми глазницами. Из пустоты безбрежья струился враждебный смертельно-опасный беспощадный студ. В десяти метрах чернела паутина ограждения лагерной зоны, освещенная прожектором с ближней вышки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: