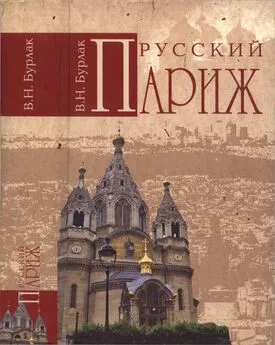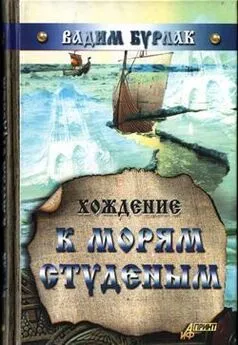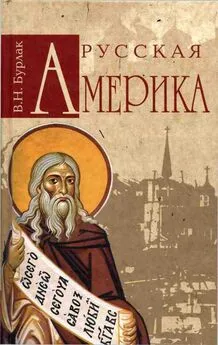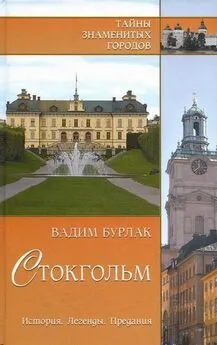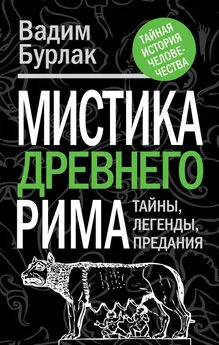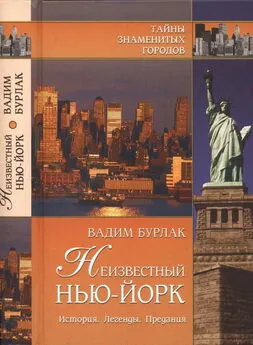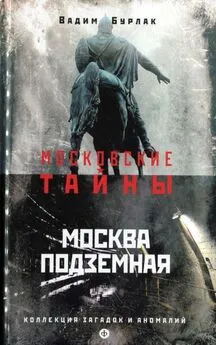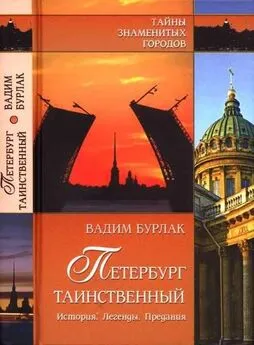Вадим Бурлак - Русский Париж
- Название:Русский Париж
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2008
- ISBN:978-5-9533-3022-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Бурлак - Русский Париж краткое содержание
Считается, что русские начали узнавать Париж с 1717 года, когда Петр I подписал верительные грамоты первого русского посла во Франции. И все же это знакомство состоялось гораздо раньше! Еще в 1054 году французский король Генрих I задумал жениться на «воплощении мудрости и красоты» — русской княжне Анне Ярославне, будущей королеве, которая оставила на века память о своей жизни во Франции. С тех пор русских всегда манил и манит Париж. В чем тайна его притяжения и очарования? Автор книги, известный писатель и путешественник Вадим Бурлак, открывает неизвестный мир русского Парижа и увлекает читателя невыдуманными «русскими историями», полными тайн, загадок и романтики.
Русский Париж - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лишь один знакомый художника случайно увидел карандашный набросок Сомова, сделанный в Сент-Женевьев-де-Буа.
Пейзаж удивил:
— Сегодня прекрасный солнечный день. А у вас — туман, неясные очертания деревьев, облаков… И вообще трудно понять, что здесь изображено… Из тумана выступают какие-то буквы… Что это?.. «К. А. Сомов»… Зачем же подпись автора помещать в центре рисунка?..
— Это мое последнее земное пристанище, — спокойно ответил Сомов.
— Полноте!.. Не стоит предаваться печальным мыслям… — смутился собеседник.
— Именно здесь я и буду похоронен… — упрямо повторил художник.
Что за место в Сент-Женевьев-де-Буа изображал Сомов в блокноте, — так и осталось для его близких загадкой.
В мае 1939 года он действительно был похоронен на возрождавшемся русском кладбище. А вот рисунки, сделанные в Сент-Женевьев-де-Буа, бесследно исчезли.
Бесследно ли?..
Может, их еще удастся отыскать? И тогда появится еще одно подтверждение в прозорливости истинных художников.

В пятидесятых годах прошлого века посетители кладбища Сент-Женевьев-де-Буа иногда наблюдали странную компанию пожилых русских. Опытный человек сразу определял, что это бывшие офицеры.
Несмотря на годы, сохранилась военная выправка, властный взгляд, уверенные движения и походка. Обходили ветераны могилы своих товарищей, поминали их и словом, и молчанием, и стаканом водки Казалось бы, ничего не обычного…
Удивляло свидетелей лишь одно в этой компании: каждый из ветеранов держал в руке тяжелую старую сковородку.
— Неужели они собираются что-то готовить вблизи кладбища, на костре?.. Но зачем им такое количество кухонной утвари?.. — поначалу удивлялись посетители Сент-Женевьев-де-Буа.
Однако бывшие офицеры не помышляли об устройстве пикника. После посещения могил товарищей они рассаживались по машинам и возвращались в Париж. Тяжелую металлическую посуду ветераны по-прежнему не выпускали из рук — будто опасались выронить реликвию…
— Может, это какая-то секта «сковородочников»?.. — предполагали любознательные посетители Сент-Женевьев-де-Буа.
— Странно, о таком тайном обществе никто не слыхал… А ведь бывшие офицеры, останавливаясь перед могилой товарища, совершают едва приметный для посторонних ритуал: ударяют сковородкой о сковородку, словно чокаются рюмками…
— А, возможно, это не секта, а бывшие военные повара? — появилась новая версия.
— Но почему тогда у них только сковородки, а не кружки, ложки, тарелки или другая какая-то посуда?..
Расспросить странных ветеранов поначалу никто не решался. Шло время, все малочисленней становилась эта компания, но все чаще появлялась она в Сент-Женевьев-де-Буа.
Наконец, один русский эмигрант не выдержал и подошел на кладбище к старикам со сковородками.
— Господа, простите мое любопытство. Быть может, в следующий ваш приезд в Сент-Женевьев-де-Буа я уже буду находиться здесь в другом качестве… — вопрошающий указал рукой в сторону могил.
— Что вас интересует? — доброжелательно поинтересовался один из бывших офицеров.
— Я много раз видел, как вы поминаете своих товарищей… Но неизменно являетесь сюда со сковородками…
— Ах, вот в чем дело!.. — старики заулыбались.
Потом охотно пояснили:
— В Первую мировую мы были авиаторами. Легкая обшивка наших аэропланов не могла уберечь нас даже от револьверной пули. Летали мы невысоко и не с такой скоростью, как нынешние самолеты. Так что хорошему стрелку из винтовки не представляло трудности поразить с земли летчика.
— Не правда ли, не достойный вариант для боевого офицера получить такое ранение снизу!.. — рассмеялся один из ветеранов.
Другие дружно подхватили:
— Вот и придумали тогда защиту: клали на сиденье толстую сковородку, — продолжил другой летчик.
— Во время боевых полетов у некоторых из нас сей замечательный предмет принимал на себя целую дюжину вражеских пуль… Так что стала нам обычная кухонная утварь и щитом, и оберегом. А в девятнадцатом даже появилась песня:
Сковорода, моя сковородушка,
Защити меня от погибели…
От шальной пули ворога…
Успешные боевые полеты, как водилось, отмечали застольем. Но вначале брали в руки не стаканы, а родимые сковородушки и ударяли их друг о дружку.
— Так поступали и когда погибали наши товарищи, — заявил другой летчик. — Вот и до нынешних времен сохранили традицию…
Ветераны раскланялись с любопытным соотечественником и направились к заветным могилам…

«Великий русский артист Иван Мозжухин собирается снимать говорящий французский фильм», — сообщала в марте 1936 года газета «Пари-Суар».
Немало актеров и режиссеров из русских эмигрантов не смогли освоиться и продолжить свой творческий путь в звуковом кино. Даже те из них, кто стал звездами французского немого экрана…
Иван Ильич Мозжухин убеждал коллег-соотечественников:
«Кино не может ограничиться простым пересказом драматургии, хотя бы и отлично выполненным. Необходимо обновленное воздействие на публику, какой бы она ни была, изысканной или обычной, малограмотной или высокоинтеллектуальной…
Вот почему я хотел окутать повествование в моем фильме атмосферой фантазии…».
В 1909 году двадцатилетний театральный актер Иван Мозжухин дебютировал в русском кинематографе. С той поры он почти тридцать лет служил этому виду искусства.
Мозжухин говорил о кино: «Это моя кровь, нервы, надежды, провалы, волнения… Миллионы крошечных кадриков составляют ленту моей души».
В России он успел сняться в нескольких десятках фильмов. Среди них: «На бойком месте», «Снохач», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Руслан и Людмила», «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Отец Сергий».
Зимой 1920 года Иван Мозжухин вместе со многими русскими кинематографистами эмигрировал.
Вскоре в предместье Парижа Монтрей-сюр-Буа появилась русская кинофабрика «Товарищество И. Ермольева». В 1922 году на ее основе была создана студия «Альбатрос».
Во Франции Мозжухин освоил новые для себя кинопрофессии. В фильме «Дитя карнавала» он стал не только исполнителем главной роли, но и режиссером, и автором сценария.
Оценивая актерское мастерство Мозжухина, известный французский критик Рене Жанн писал:
«Тонкий алхимик страсти и страданий… Иван Великолепный, ослепленный искусством и его сверкающими видениями, выражает… невыразимое…».
Однажды фильмы Ивана Мозжухина посмотрел молодой художник-керамист Жан Ренуар. Увиденное на экране так потрясло его, что он оставил свое ремесло и годы спустя стал звездой французского кино.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: