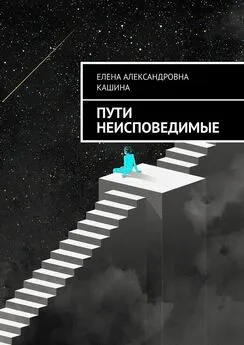Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
- Название:Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Контур
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.) краткое содержание
Воспоминания о лагерном и военном опыте Андрея Владимировича Трубецкого, сына писателя Владимира Сергеевича Трубецкого.
Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но вот наступил день, когда я впервые за два месяца встал с постели. Сосед Петр застелил мою койку. Голова кружилась, ноги дрожали, находиться в вертикальном положении было очень трудно, и я присел на соседнюю кровать. А дня через два, держась за спинки коек, сделал несколько шагов. Отдыхая по дороге, я добрался до окна и сел на подоконник. Сидеть было неудобно, жестко, сказывалась худоба. С интересом смотрел на улицу. Школа, где помещался госпиталь, стояла на перекрестке. Справа через улицу был фабричный двор, а слева напротив — трехэтажный дом, отведенный под гетто. Многие из нас пытались завязать «телефонный» разговор знаками с населением гетто, но ответов с той стороны не было. В окна была видна частичка жизни собранных там евреев. В одной из комнат они всегда что-то взвешивали на весах, делили. Помню поразившее меня событие из короткой истории этого гетто (я тогда еще не ходил). Однажды ребята заметили какое-то беспокойство среди евреев. Все они суетились, многие плакали. На наш вопрос, что там случилось, санитарки спокойно ответили: «Жидов стрелять будут». Как так? Кого? Каких? «Детей и стариков», — был ответ. Все это никак не укладывалось в голове, до того это было невероятно. Как до, так и после этого с евреев каждый день водили на работу и сопровождал их всегда один немец. К концу моего пребывания в госпитале оставшихся евреев куда-то перевели и дом напротив опустел.
К моменту второго в жизни обучения ходьбе у меня были знакомые и в других палатах. Я подружился с летчиком Виктором Табаковым, москвичом. В самом начале войны он был сбит под Вильно и упал, раненный в горящем самолете. В госпитале Виктор ходил с отставленной на каркасе загипсованной рукой — «ястребок» — и со шрамами на лице. Мы с ним развлекались тем, что составляли друг для друга или для его лежачего приятеля кроссворды. Сестры иногда приносили старые польские журналы с головоломками, которые мы с Виктором решали. Слово «головоломка», по-польски «ламиглувка», нас очень потешало. Вскоре я начал выходить в коридор. Прямо против нашей двери была широкая лестница, ведущая вниз, и только тут я вспомнил, что по ней поднимался в первый день моего появления. В окно, выходящее во двор было видно большое недостроенное здание — костел в стиле модерн. На первом этаже в вестибюле (туда я еще не спускался) стояло пианино, Виктор играл начало какого-то фортепианного концерта. Играл бойко, но дальше нескольких фраз почему-то не шел. Так он разрабатывал пальцы раненой руки.
Выходя в коридор, я облокачивался на парапет над провалом лестницы и нередко разговаривал с нашим санитаром, таким же пленным (это он дважды носил меня на руках в операционную). Он говорил, что белорус, но сдается, что это был еврей. Врачи относились к нему хорошо и, жалея его, в лагерь не списывали. Фамилия его была Беленко, а сам он был жгуче черным. Это был образованный, культурный человек, за словами его угадывалась глубокая тоска.
Внутри госпиталя жили мы свободно, палаты между собой сообщались, люди делились новостями, слухами, посещали земляков. К нам каждый день приходил украинец, раненный в руку. Он садился на койку к земляку и довольно громким шепотом говорил только о еде. Так и слышалось: «Сало в ладонь, галушки со сметаной», — и тому подобное. Нашу публику это выводило из себя, и его выпроваживали. Вообще же, все разговоры даже о самых далеких, казалось бы, от еды вещах сводились к еде. Например, рассказывает человек о своей работе, так обязательно начнет говорить, что и как подавали в рабочей столовой: что вот возьмешь то, а не это или другое, сколько это стоило, как наедался, да как подавали. Любили рассказывать рецепты приготовления различных блюд. В палате даже постановили не говорить о еде, а только на женские темы. Но и эти разговоры не клеились, а получалось что-нибудь вроде: «Пришел я к ней, а она уже стол накрыла...», — и опять понесло. Слушать все это было сладко-мучительно.
Я уже передвигался свободно, ходил в уборную в конце коридора и начинал все крепче задумываться о своей судьбе. Особенно по вечерам, когда долго не мог заснуть, и все эти мысли лезли в голову. Выхода я не видел. Если не фантазировать, а смотреть вещам в глаза прямо, то положение мое было плачевным. Когда-то меня выпишут из этой благодати, а к жизни в лагере я не готов. К нам все время доходили слухи о тамошних условиях, где люди дохли, как мухи, да и по Двинску я знал, что это такое [6] Много лет спустя я прочитал в «Новом мире» рецензию на книгу чешских журналистов «СС в действии», где приводились данные из немецких архивов. Из 4-х млн. советских военнопленных к февралю 1942 года остался в живых 1 млн.
. Становилось тоскливо. Правда, относился я ко всему пассивно, давая событиям течь своим ходом. Будь я крепок и здоров, то обреченность моего положения, вероятно, заставила бы меня действовать. Тяжелая болезнь, физическая немощь притупила все чувства. О доме, о своих думал я в то время мало, хотя подсознательно в голове всегда стоял вопрос — как они там? Но вместе с тем разыгрывалась и фантазия. Вот кончится война, нас, наверное, всех распустят. Вернусь в Москву. Учиться, вероятно, будет нельзя, надо работать. Где? У немцев? Кем? Что делать? А по Москве, по знакомым улицам ездят теперь уже знакомые, но чужие машины...
В то время, когда я начал свободно говорить, меня, естественно, стали спрашивать (и свои, и из обслуживающего персонала), что я за Трубецкой, спрашивать о родителях. Раньше, отвечая на такие вопросы — устные и анкетные, — я никогда не скрывал истины, что четверо из десяти членов семьи арестованы, не скрывал дворянского происхождения. Но здесь говорить обо всем этом было как-то и совестно и неудобно. Мне это казалось какой-то спекуляцией. Но все-таки говорил. После этих разговоров, а, может быть, и ранее, ко мне стала проявлять интерес санитарка нашей палаты Нона Стучинская, вдова польского унтер-офицера. Она рассказывала, что ее сестра замужем за неким Бутурлиным, что он мной интересуется, и несколько раз приносила мне еду, а иногда и что-нибудь почитать. Однажды сумела привести этого Бутурлина, который, постояв в дверях палаты, молча посмотрел на меня.
Как-то в ноябре месяце вечером, выйдя в коридор, я стоял, облокотившись на парапет над лестницей. Ко мне подошла одна из сестер, которую я знал по дежурствам, и стала спрашивать, как звали моего отца, мать, нет ли у меня где-либо тут родственников. Я ей ответил о родителях и вспомнил, как осенью 1939 года, когда наши войска вошли в Западную Белорусию, дядя Миша Голицын — брат матери — говорил, что недалеко от Барановичей находилось имение дяди Поли Бутенева, мужа тети Мани, сестры отца. Я это ей рассказал, добавив, что полного имени дяди Поли не знаю, и тут же спросил, почему она все это спрашивает. Она ответила, что просто так интересуется, и отошла от меня. Я понял, что все это неспроста, что тут кроется нечто очень важное, и у меня зародилась маленькая надежда, такая маленькая, что я боялся даже думать о ней, как маленький огонек, в котором вся жизнь, но который потухнет от твоего малейшего дыхания. О разговоре этом я, конечно, никому не сказал. Так шли дни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
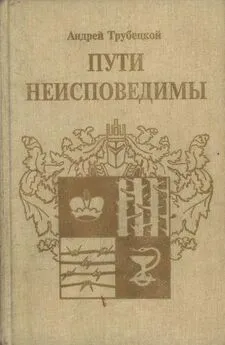



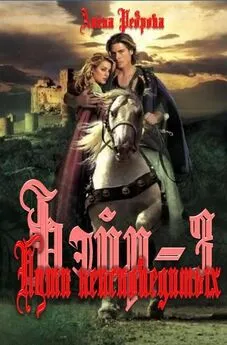
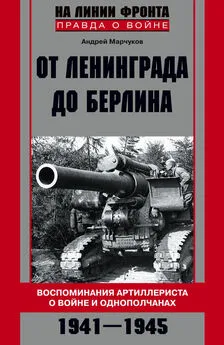
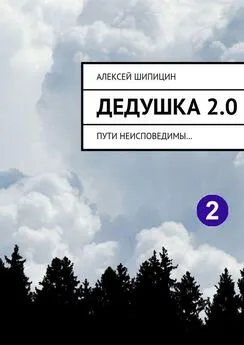

![Андрей Вербицкий - Шесть лет с В. И. Лениным [Воспоминания личного шофера Владимира Ильича Ленина]](/books/1096826/andrej-verbickij-shest-let-s-v-i-leninym-vospom.webp)