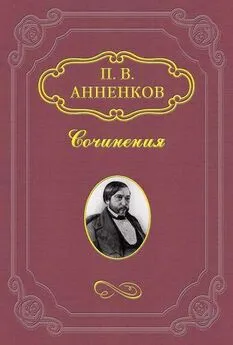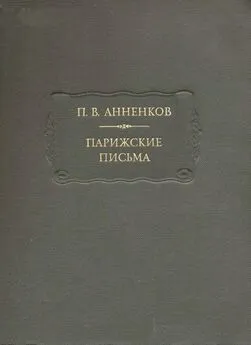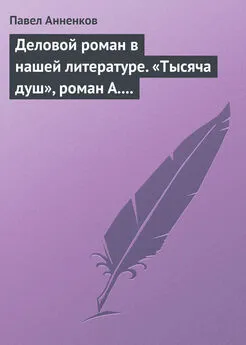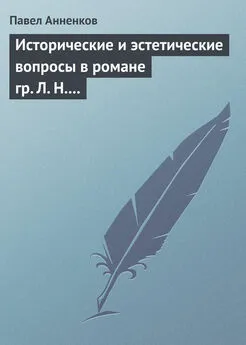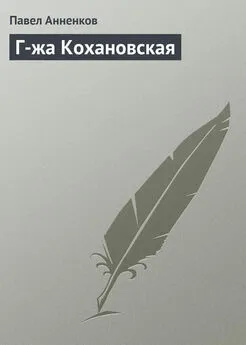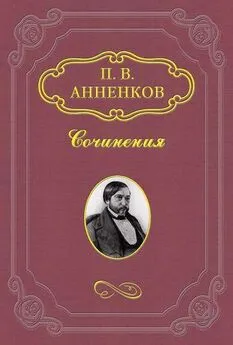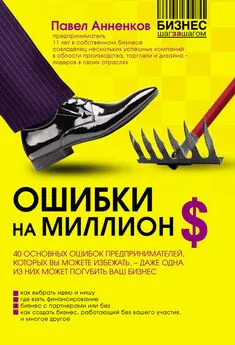Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху
- Название:Пушкин в Александровскую эпоху
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лимариус
- Год:1998
- Город:Минск
- ISBN:985-6300-04-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху краткое содержание
«…При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А.С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, – личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций…» (П.В. Анненков)
Пушкин в Александровскую эпоху - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так как борьба с французским эстетическим кодексом и с классической поэзией вообще занимает не последнее место в жизни и творчестве Пушкина, то мы обязаны также сказать несколько слов и о художественных понятиях эпохи. Уже и в это время имена Гете и Шиллера начинали проникать в общество. «Вестник Европы» с 1818 г. стал противопоставлять, хотя еще и очень робко, французским трагикам известия о драмах Гете и Шиллера, но с появлением Пушкина он отказался, как известно, от этой пропаганды и возвратился назад. Не более выдержки показала и светская критика. Для нее знаменитые поэты Германии были опять чем-то в роде неожиданных небесных знамений, появившихся на европейском горизонте и задающих трудные вопросы зрителям. И действительно, их не легко было уразуметь без знакомства с деятельностью Лессинга, очистившего им дорогу, и с новой немецкой философией, воспитавшей их дух и устроившей их созерцание. Оставалась классическая драма и классическое искусство вообще, столь доступные образованному нашему классу по своему чистому французскому диалекту: они не требовали и особенной подготовки. На классической драме и сосредоточились общие восторги и похвалы. Высокообразованные люди эпохи успели понять красоту ее фразы, проникнуться чинностью и приличием ее форм, этикетом времен «великого монарха», который герои ее соблюдали даже в минуты катастроф, наконец ее напыщенно великими (sublime) или ухищренно тонкими изречениями. Эти выходки и фразы одно поколение детей за другим учило у нас наизусть чуть ли не полвека с ряду. Самый же дух псевдоклассического искусства, так понятный народам романского происхождения, был совершенно чужд северным его поклонникам. Какие струны сердца могли, в самом деле, будить у них отголоски греко-римского языческого мира, что могли говорить их уму и воображению другие составные части классической поэзии – воспоминания из эпохи «возрождения» с ее жаждой блеска, щегольства, наслаждений или мотивы, занесенные в нее от средневековых труверов, из кодекса рыцарской чести и морали и проч. Но сладкая привычка слушать французскую речь и изъясняться ею держала все светское общество долго в упоении перед псевдоклассическим искусством. Пушкин, однако же, скоро отрезвился, благодари Байрону, от этого упоения, которое сначала разделял со всеми; но понадобились весь его талант и многолетние усилия критиков, чтобы ослабить в обществе эту почти кровную его привязанность. Еще в 1830 году Пушкин, приступая к изданию «Бориса Годунова», сомневался в его успехе, основываясь на классических симпатиях публики и прибавляя: «нововведения, кажется, не нужны и опасны». (См. «Материалы» 1855, стр. 147).
Вообще говоря, благородные личности той эпохи (мы разумеем ее лучших людей, ее «интеллигенцию») поражали в последовавшее затем время благоговейной преданностью и любовью к той или другой идее, явившейся им на заре жизни, как истина. Оно и понятно. Все, что они называли знанием, никогда не носило характера изучения, допускающего видоизменения взглядов, поправки их или развития. Всякое знание, так или иначе добытое, было для них глубоким, непоколебимым верованием непререкаемым догматом, чем и объясняется замеченная в них стойкость убеждений до слепоты и упрямства.
Горячий и страстный дилетантизм времени развивался с особенной силой и полнотой на почве русской истории, в области представлений и понятий о прошлом русского народа, которым объяснялось настоящее его положение и из которого выводились предсказания о его будущем. Дилетантизм этого рода вышел совсем не из желания противодействовать господству западной науки в обществе или заставить ее, покинув свой доктринерский характер, заняться вопросами русской жизни. Напротив, и ученое доктринерство, и пламенная патриотическая фантазия часто сживались тогда друг с другом в уме одного и того же лица, которое могло свободно призывать воображаемые факты русской истории на помощь идеям чужеземного происхождения, нисколько не замечая их разновидности и внутреннего противоречия. Так именно случилось у нас по вопросу о древнеславянском быте. В светском обществе образовалась значительная партия, желавшая вывести цели и задачи русского развития из указаний истории, из свойств самого духа, «психеи» – русского народа, подобно тому, как передовые люди Германии вызывали тени Арминия, воспоминания Тацитовских немцев и проч. для обновления и одушевления своего народа. Но по тому же недостатку точных сведений и научного изучения предмета, которое замечалось во всех других сферах тогдашней умственной деятельности, эта партия сама приобрела чрезвычайно произвольный, фантастический характер. Из множества поэтических, но призрачных ее толкований русской истории, особенным успехом пользовалось то, которое помещало в общеславянском мире, с самой ранней его поры, величественные народные учреждения, обеспечивавшие каждой общине самостоятельное развитие. Светская эрудиция, овладевшая этой темой и сделавшая ее модной темой своих учено-патриотических разговоров, рассуждала о вечах в древних общинах, о подчиненной роли князей в тех же общинах, об устройстве самими племенами и народными группами всего своего политического быта и всех своих отношений к другим родственным племенам и народным группам. Заключения добывались партией также легко, как и факты. Светская эрудиция усматривала в старых порядках древнего нашего быта высокий идеал общественного и политического существования, достойный восстановления и подражания. Молодое поколение призывалось осуществить этот старый, утерянный идеал жизни, который тем удачнее исполнял свою роль идеала, чем туманнее и неопределеннее представлялся сознанию. Мы осуждены приводить не много свидетельств в подтверждение нашего очерка, так как описываем внутреннюю, интимную жизнь общества, которое, по особенным причинам, редко спускалось до обнаружения своего настроения печатным словом или гласным заявлением, оставив после себя только живые предания, нами здесь и подобранные. Со всем тем уцелело от этой эпохи и несколько положительных свидетельств созерцания, описываемого теперь. Так, полемические заметки М.Ф. Орлова и Никиты Муравьева, направленные против духа и основных положений истории Карамзина, имели точкой своего отправления ревность по величию славян и по красоте их истории. Яснее выразилась теория в известном «Разборе Донесения», составленном Луниным и тем же Н. Муравьевым: там одно из примечаний излагает в виде непреложного исторического догмата, не нуждающегося в подтверждениях и изысканиях, повсеместное существование на Руси республик и совещательных собраний, никогда не признававших единоличной власти; память о них сказывалась будто и в московский период истории, например при Иване Грозном, и очевидно была свежа будто бы в народе даже при Петре I-м и позднее. Да и не одними теориями ограничивалось в то время это псевдоисторическое созерцание, возникшее в светском быту: оно перенесено было на другую почву, как это тогда постоянно делалось, и на основании его составлялись тайные общества, имевшие в виду осуществление федерации славянских племен, чему служит доказательством «Общество Соединенных Славян», возникшее на юге России. Проекты конституций, начертанных Никитой М. Муравьевым и кн. Трубецким, носят на себе отпечаток того же учения; оно подсказало им деление нашего русского мира на множество самостоятельных областей и держав, принятое и «Русской Правдой» Пестеля. Разница тут состояла только в способе устроения федеративной связи между этими частями. Какую долю времени посвящал впоследствии сам Пушкин на изъяснение a priori русской истории, мы уже знаем из документов, помещенных в наших «Материалах» 1855 г. Выводы его могли быть иные при этом, но приемы исследования унаследовал он от своих современников александровской эпохи, и способ относиться к истории был у него одинаковый с ними. Вот, что он писал, например, в 1831 г., рассуждая о феодализме, как о могущественном элементе развития, который пережили западные народы и отсутствие которого в русской жизни и истории, по мнению Пушкина, достойно сожаления: «Феодализм мог бы развиться (у нас) наконец, как первый шаг учреждений независимости (общины были бы второй), но он не успел… Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иоанном III-м, гоним, истребляем Иоанном IV-м. Место феодализма заступила аристократия, и могущество ее в междуцарствие возросло до высочайшей степени. Она была наследственная – отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, а Языков и меньшое дворянство уничтожили местничество и боярство. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сегодня» и проч.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: