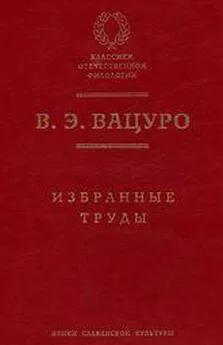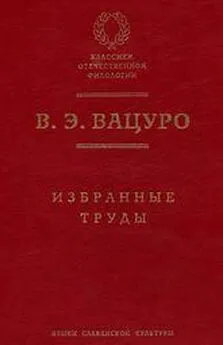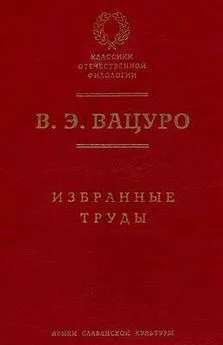Вадим Вацуро - Из неизданных откликов на смерть Пушкина
- Название:Из неизданных откликов на смерть Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-94457-179-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Вацуро - Из неизданных откликов на смерть Пушкина краткое содержание
Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку.
Из неизданных откликов на смерть Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итальянский период жизни Зайцевского известен очень мало; высказывалось даже мнение, что он почти перестает писать. Между тем это не так. В конце 1830-х годов поэтическая деятельность его довольно интенсивна. В 1839 г., находясь в Риме и Неаполе, он пишет несколько стихотворений, навеянных итальянскими впечатлениями, и поддерживает связи с русскими литераторами: с Д. И. Долгоруким, В. Ф. Одоевским и, по-видимому, с И. П. Мятлевым. Среди бумаг Д. И. Долгорукого сохранились хранящие след этих дружеских связей стихотворения Зайцевского; одно из них («Законы осуждают предмет моей любви», Неаполь, 1839) посвящено «И. П. Мятлеву и князю Д. И. Долгорукову»; другое («К перышку», Неаполь, 1839) имеет подзаголовок «Своевольное подражание поэту Мятлеву». Вероятно, с Мятлевым Зайцевский познакомился, когда тот путешествовал по Европе. Попытки его «в мятлевском роде», впрочем, были мало удачны. Больший интерес представляет третий текст, подаренный Зайцевским Долгорукову: это перевод терцинами стихов 1–36 популярной в русской литературе третьей песни «Ада» Данте («L’Inferno. С. III. Терцет по Данту») [20] ЦГАЛИ, ф. 177, оп. 1, № 217 («Три стихотворения Зайцевского, посвященные Долгорукому Д. И.»).
, третий по времени перевод большого фрагмента знаменитой поэмы (после П. А. Катенина и А. С. Норова). Мы приведем этот отрывок, о котором, насколько нам известно, никаких упоминаний в литературе не было.
«К юдоли вечных слез проходят мною,
Проходят мной в обитель вечных мук,
Проходят мной к погибнувшим душою.
Правдив был труд меня создавших рук:
Я дело божества, любви начала
И вечной мудрости, ключу ( так !) наук.
И до меня созданья не бывало,
Лишь вечность, и стою от века я:
За прагом сим отчаянье всех ждало».
Сии слова, как тучи в высях дня,
Темнели надписью над дверью ада.
Я вскрикнул: «Вождь, их смысл страшит меня».
Он молвил мне с прозорливостью взгляда:
«Сомнений здесь на сердце не читай,
Погибелью здесь мужества утрата.
Вступаем мы в поведанный мной Край,
Весь полный скорбных жертв и безответный
Для душ, утративших свой светлый рай».
Мне руку сжав и взор склоня приветный,
Он ободрил мой дух и укротил
И ввел меня в мир Тайны заповедный.
Здесь в воздухе без света и светил
Гремят проклятий крик, визг, плач, стенанья, —
И слез поток невольно я пролил.
Племен и Царств здесь слышалось рыданье,
Звучала бездна гулом голосов,
И с воплями слилось рукоплесканье.
Так дышит вихрь, взрывая грудь песков.
И я воззвал, весь полн недоумений:
«Кого карал так гнев и суд богов?».
Он рек: «Сей род презренный поколений —
Толпа; бесцветна их души печаль,
Без добродетелей, без преступлений,
Их жизнь пуста, их никому не жаль».
Этот отрывок наглядно показывает нам и уровень мастерства, и поэтическую ориентацию Зайцевского в конце 1830-х годов. Эпигон-романтик, он овладел поэтической фразеологией пушкинской эпохи и, конечно, не ошибался, когда в стихах памяти Пушкина объявлял его своим поэтическим учителем. Но он был учеником Пушкина в общем смысле: не столько последователь, сколько подражатель, он воспроизводил уже готовые формулы, пересказывая с их помощью оригинал; в отличие хотя бы от того же Катенина он не стремился отыскать общий стилистический ключ дантовской поэмы и дать ему русский эквивалент. У него нет индивидуального стиля: его поэтическая система эклектична, в ней слышатся отзвуки то сентиментальной и элегической, то «высокой», псалмодической поэзии. Наконец, самая интерпретация исходного текста типична для эпигонского романтизма: дантовские отверженные души для него «толпа», «чернь» — традиционное понятие массовой романтической лирики, варьирующей антитезу «поэт — толпа». В русском литературном сознании 1830-х годов этот общеромантический мотив также постоянно связывался с именем Пушкина.
Все эти стилистические тенденции нашли место и в поэтическом отклике Зайцевского на смерть Пушкина, где живые черточки реального облика поэта, памятные автору по личным впечатлениям, наложились на образ вдохновленного свыше романтического «певца». Судя по тону и содержанию стихотворения, оно было непосредственным откликом на известие о гибели Пушкина. На эту мысль наводит, в частности, концовка стихотворения с несколько наивной угрозой «разрядить» в Дантеса пистолет. Неосуществимая мечта о «мщении» Дантесу (естественная, впрочем, для «моряка-солдата») спорадически возникала в обществе под влиянием первого потрясения: напомним о намерении Л. С. Пушкина вызвать Дантеса на дуэль и о распространившемся слухе, что то же самое собирался сделать Мицкевич [21] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 157; Русский архив. 1905. № 8. С. 607. Ср. совершенно такую же реакцию М. Орбелиани, о которой сообщал А. А. Бестужев-Марлинский брату 23 февраля 1837 г. ( Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х т. Т. II. М.; Л., 1958. С. 673–674).
.
Зайцевский прожил в Италии до конца жизни — почти тридцать лет, лишь изредка заезжая в Россию (например, в 1840–1841 гг.); с 1846 г. он состоял при русской дипломатической миссии в Неаполе. По-видимому, он стремился, насколько возможно, сохранить свои прежние связи. В бумагах С. А. Соболевского осталось несколько его писем за 1840-е годы [22] ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245; № 11, л. 145 об. — 153.
. В 1853 г. его видел в Венеции Вяземский, отметивший в своем дневнике: «Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившего себя в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии» [23] Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. X. СПб., 1886. С. 27–28.
. С Кассини Зайцевского также связывало давнее знакомство: сохранилось письмо Зайцевского В. Ф. Одоевскому 1839 г. с просьбой взять под свое покровительство Кассини, русского консула в Триесте, отправляющегося в Петербург [24] ГПБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, № 523 (письмо от 14 марта 1839 г.).
.
Эти связи, может быть, объясняют отчасти помету «Триест» под стихотворением Зайцевского. Когда Н. А. Маркович, некогда однокашник Соболевского, посетил во время своего заграничного путешествия Триест (это произошло в ноябре 1857 г.) [25] См. в собрании путевых реликвий Марковича афишу Большого театра в Триесте с датой 8 ноября 1857 г.: ИРЛИ, ф. 488, № 46, л. 65.
, он, по-видимому, встретил там Зайцевского, и «бывший поэт» записал для его альбома свои старые стихи, которым придавал особое значение. Имя Пушкина в них было символичным: оно возникало как своего рода знак связи их автора с Россией, ее культурной традицией и даже как знак принадлежности его к поэтическому цеху. Впрочем, это лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, и наиболее вероятная; если же «Триест» обозначает не место записи, а место создания стихотворения, тогда нужно предполагать какие-то встречи Зайцевского с Марковичем в России, о которых до нас не дошло никаких сведений.
Интервал:
Закладка: