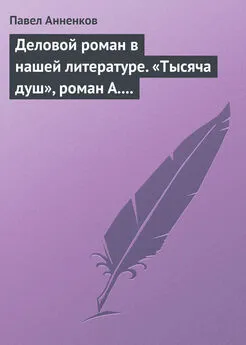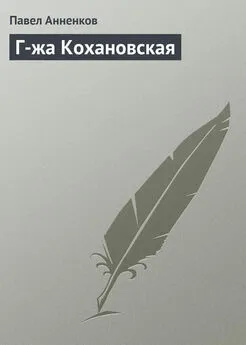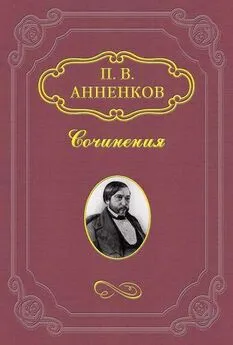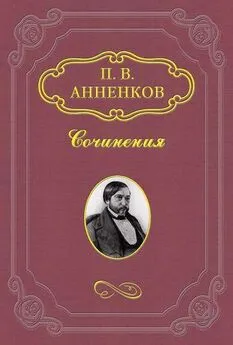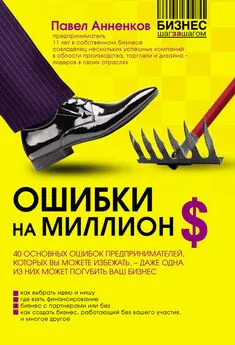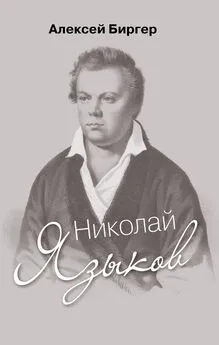Павел Анненков - Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта
- Название:Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-67155-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Анненков - Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта краткое содержание
Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры. Для тех, кто делает первые шаги в изучении пушкинского наследия, книга П. В. Анненкова станет надежной опорой. Для тех же, кто давно и усердно интересуется жизнью и творчеством Пушкина, — золотым стандартом, с которым сверять свои достижения и лестно, и небесполезно.
Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
58
Продолжение этой выдержки из письма от 3 декабря 1825 г. тоже прилагаем здесь: «Кстати: кто писал о горцах в «Пчеле»? Какая поэзия! Я[кубович] ли герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним был на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде — поэма моя была бы еще лучше. Важная вещь! Я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать: робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я ни читал о романтизме — все не то». Последние слова Пушкина мы объясняем далее в наших материалах.
59
Так, брат поэта рассказывает в своей записке, что однажды, оскорбясь замечанием одной женщины, он потребовал отчета у мужа ее и на нем выместил обиду. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела однако ж с великим присутствием духа, и проч., и проч.
60
Может быть, на это письмо Пушкин отвечал стихами, первый оригинал которых, весьма несовершенный, разумеется, остался в его бумагах:
Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел
Дары природы благосклонной;
Я знал досуг, беспечных муз удел,
И наслажденье ленью сонной.
Ей отдал ветреные годы,
Я верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы.
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье!
61
Так, например, в одной современной думе Олегов щит имеет герб России. Пушкин заметил несообразность и писал: «Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега. Новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во времена Иоанна III, не прежде. Летопись просто говорит: «тоже повеси щит свой на вратех на показание победы». Он вообще отзывался об исторических стихотворениях той эпохи довольно строго: «Вообще все слабы изобретением и изложением. Все на один покрой (loci topici) (общие места ( лат. ). — Прим. ред. ): описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального русского нет в них ничего, кроме имен… «Милый мой, — пишет Пушкин к брату из Кишинева по поводу тех же стихотворений, — у вас пишут, что «луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого». Это не Х[востов] написал — вот что меня огорчило. Что делает Дельвиг? Чего он смотрит?» Через несколько времени Пушкин возвращается еще на свои заметки в новом письме к брату: «Душа моя, — говорит он, — как перевесть по-русски bévues (оплошности, промахи. ( фр. ) — Прим. ред. ). Должно бы издавать у нас журнал «Revue des bévues’ («Обозрение промахов» ( фр .) — прим. ред. ). Мы поместили бы там выписки из критик В[оейко]ва, полудневную денницу, герб российский на вратах византийских (во время Олега герба русского не было: двуглавый орел есть герб византийский и означает разделение империи на восточную и западную…). Поверишь, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десяток этих bévues. Поговори об этом с нашими, да похлопочи о книгах…». В другой раз он останавливается на стихотворении «Олимпийские игры», напечатанном в «Мнемозине» (1826, т. IV), и снова пишет к брату: «Читал стихи и прозы К[юхельбекера] — что за чудак! Только в его голову могла войти мысль воспевать Грецию, великолепную Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славянорусскими стихами… Что бы сказал Гомер и Пиндар? Но что говорят Дельвиг и Баратынский?» Мы видим, что близкое знакомство не мешало Пушкину замечать погрешности приятелей, но он не всегда их высказывал начисто.
62
Можно заметить последний отголосок идеи, породившей «Демона» в стихотворении, принадлежащем к 1827 г. «Ангел» («В дверях эдема ангел нежный…»); но здесь уже представление смягчается под действием жизни и, может быть, личного опыта. Кстати, прилагаем письмо Пушкина из Одессы к Дельвигу, замечательное, между прочим, и тем, что тут впервые упоминает он о «Ев. Онегине»: «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейского — слава и благодарение за то тебе и моему П[ущину]! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере, слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты, прочел их с жадностью, восхищением и благодарностию за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дождусь ваших стихов, только их получу, заколю агнца и украшу цветами свой шалаш, хоть Б[ируков] находит это слишком сладострастным… Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан Вяземскому: это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь и все-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя. Б[ируков] ее не увидит за то, что он фи — дитя, блажное дитя. Бог знает, когда и мы прочтем ее вместе. Скучно, моя радость. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу. Где он? Что он? Ничего не знаю… Правда ли, что к вам едет Россини и италианская опера? Боже мой! Умру с тоски и зависти. 16 ноября. Вели прислать мне немецкого «Пленника».
63
Oh felice que mai non pose il piede
Fuori della natia sua dolce terra;
Egli il cor non Iascid fitto in oggetti,
Che di piu riveder non ha speranza, etc.
«О, счастлив, кто никогда не переступал за границу священной земли собственного отечества: сердце его не привязано к предметам, которых нет ему надежды увидеть снова».
Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, замечает, что вместе с итальянским языком сын его учился и по-испански.
64
«Верни мне мою молодость…» (нем.).
65
Стихотворение «К морю» напечатано было впервые в альманахе «Мнемозина» (1824 г., Москва, часть IV) и сопровождалось любопытным примечанием издателей. При стихе «Мир опустел», который в альманахе не имел окончания, сделана выноска: «В сем месте автор поставил три с половиною строки точек. Издателям сие стихотворение доставлено кн. П. А. Вяземским и здесь отпечатано точно в том виде, в каком оно вышло из-под пера самого Пушкина. Некоторые списки оного, ходящие по городу, искажены нелепыми прибавлениями. Изд.». Видно, что и эта пьеса не избегла участи многих других стихотворений поэта. Между прочим, она вошла в состав изданий 1826 г. и 1829 г. с некоторыми изменениями, несмотря на то, что в альманахе печаталась с пушкинского подлинника. (См. примечания наши к стихотворению.) Кстати скажем, что в том же альманахе-журнале «Мнемозина», только в III части (1824 г.), помещено было и стихотворение «Демон», но с такими ошибками, что Пушкин перепечатал его в «Северных цветах» и писал к брату из деревни: «Не стыдно ли К[юхле] напечатать ошибочно моего «Демона»! Моего «Демона»!.. Не давать ему за то ни «Моря», ни капли стихов от меня…». Однако же «Море» было дано: поэт, видно, умилостивился над приятелем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: