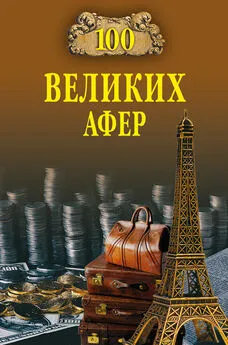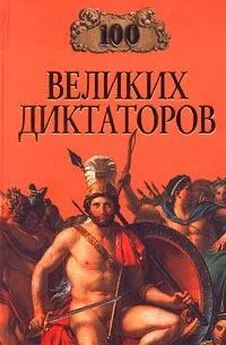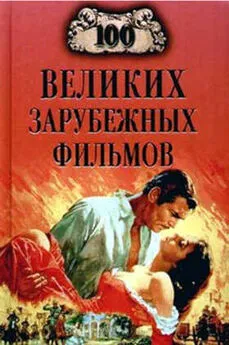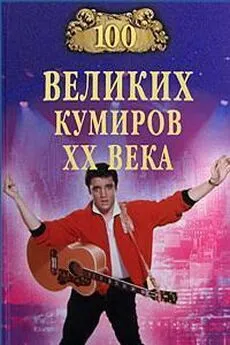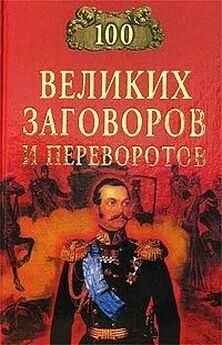Игорь Мусский - 100 великих афер
- Название:100 великих афер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-3351-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Мусский - 100 великих афер краткое содержание
У вас в руках – настоящая энциклопедия мирового мошенничества, причудливая и остросюжетная летопись человеческой алчности. На страницах книги перед вами предстанут цари и принцы никогда не существовавших стран и короли жуликов, создатели подделок, ставших мировой сенсацией. Кто не слышал в нынешней России об уголовных делах «МММ» и «Русского Дома Селенга»? Но, оказывается, первую финансовую пирамиду у нас в стране построили еще в позапрошлом веке! Рассказ о погибшем НЛО, тайна динозавра из озера Лох-Несс, история романтических «Поэм Оссиана» поистине не позволят вам скучать.
100 великих афер - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Александр Иванович Сулакадзев служил одно время в гвардии, потом женился и вышел в отставку. Он имел собственный дом в Семеновском полку.
Деятельность Сулакадзева, как мистификатора, началась еще в конце XVIII века. Во всяком случае, в первом десятилетии XIX века он был уже известным коллекционером, обладателем целого ряда «редкостей» и большой библиотеки. «Искусство ради искусства» – вот принцип собирания редкостей, который исповедовал Сулакадзев. Собирал он все – вещи, рукописные книги, и даже слухи. В архивах сохранилась его записная книжка со слухами, ходившими в Петербурге в 1824–1825 годах. В этой книжке, кстати, зафиксирован слух, послуживший Гоголю сюжетом его «Шинели».
В марте 1807 года Гавриил Романович Державин рассказывал друзьям об антикваре Сулакадзеве, владельце уникальной коллекции. Алексей Оленин, которого поэт пригласил осмотреть собрание, сообщил, что уже с ним знаком. Вот что писал Оленин о посещении «музея» Сулакадзева (в оригинале – Селакадзев): «Мне давно говорили о Сулакадзеве, как о великом антикварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии, не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Сарая, обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы, престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами; но главное сокровище Сулакадзева состояло в толстой уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков: эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: “Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать”».
Однако Сулакадзев был известен не только как собиратель древностей, но и как ловкий мошенник. Он работал «на заказ», ориентируясь на спрос со стороны не очень сведущих, но богатых коллекционеров, желающих заполучить те или иные «древние письмена». Сожалея о том, что в столь известном произведении, как «Слово о полку Игореве», интригующая фигура Бояна упомянута лишь вскользь, Сулакадзев, обладавший незаурядным литературным талантом, сотворил «Боянову песнь Словену» («Гимн Бояна») – «предревнее сочинение от 1-го века или 2-го века». В древнеславянском гимне Бояна князю Летиславу, писанном на пергаментном свитке красными чернилами, буквами руническими Боян довольно подробно рассказывает о себе, что он потомок Славенов, что отец его был Бус, что старый Словен лично видывал его…
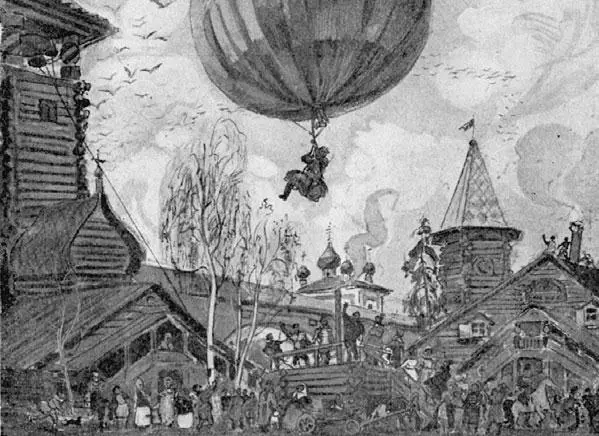
Полёт Крякутного
В то время считалось, что русский народ до христианства не имел письменности. Рукопись «Бояновой песни» опровергала общепринятое мнение. В письме от 6 мая 1812 года археограф и библиограф Болховитинов сообщал Городчанинову: «О Бояновом гимне и оракулах новогородских хотя спорят в Петербурге, но большая часть верит неподложности их… Дожидаются издания – тогда в публике больше будет шуму о них».
Сулакадзев сочинил также не менее поэтичное произведение «Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим». Вот как Сулакадзев описал этот памятник в своем каталоге: «Века в точности определить нельзя, но видимы события V или VI века… Писана стихами, не имеющими правила. Пергамент весьма древний, скорописью; и, видимо, не одного записывателя; и не в одно время писано, заключает ответы идолов вопрошающим – хитрость оракула видна – имена множества жрецов, и торжественный обычай в храме Святовида, и вся церемония сего обряда довольно ясно описана, а при том вид златых монет, платимых в божницу и жрецам. Достойный памятник древности».
Сулакадзев развернул свою «деятельность» в то время, когда существовали весьма доверчивые собиратели. И все-таки успех подделок Сулакадзева объясняется не только доверчивостью собирателей, но и состоянием науки того времени. Ведь о русском язычестве почти ничего не знали, так же мало знали о истории русской письменности. Имена Мовеслав, Древослав, жрец Имир времени Олега, Олгослав, Угоняй, Стоян, Оаз, Вадим, Урса, Володмай, Жирослав, Гук и прочие, якобы древнерусские, придумал Сулукадзев. Это было в духе того времени. Державин, Нарежный, Чулков и другие писатели широко пользовались в художественных произведениях как подлинными старорусскими именами, так и сложенными по образцу этих имен.
В 1810 году Гавриил Державин все-таки решил посетить Сулакадзева – вместе с Н. Мордвиновым, А. Шишковым, И. Дмитриевым и А. Олениным. Известие о визите столь важных особ несказанно обрадовало коллекционера. «Так этот Дмитриев – министр юстиции? Так этот Мордвинов – член Государственного совета?» – спрашивал он.
Внимание Державина особенно привлекли «Изречения новгородских жрецов» («Новгородские руны») и «Боянова песнь». В «Рассуждении о лирической поэзии или об оде» он отметил следующее: «Если справедливо недавнее открытие одного славено-рунного стихотворного свитка I века и нескольких произречений V столетия новгородских жрецов, то и они принадлежат к сему роду мрачных времен стихосложения. Я представляю при сем для любопытных отрывки оных; но за подлинность их не могу ручаться, хотя, кажется, буква и слог удостоверяют о их глубокой древности».
Далее Державин привел рисунок «славено-рунного» свитка, его чтение и перевод и указал, что «подлинники на пеграмине находятся в числе собраний древностей у г-на Сулакадзева».
«Боянова песнь» и «Изречения новгородских жрецов», «как оказалось несколько лет спустя, были археологическим подлогом, но первое время ему придавали веру». Подлог этот был сделан Сулакадзевым. Рукопись «Бояновой песни», которую мистификатор датировал I или II веком не могла быть отнесена к этому времени уже хотя бы потому, что упоминаемый в «Слове о полку Игореве» Боян жил не в первом и не во втором веке, а во второй половине XI – начале XII века.
Некоторые подделки Сулакадзева появлялись как своеобразные подарки влиятельным лицам. Так, в 1819 году перед поездкой в Валаамский монастырь Александра I вышел труд «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря», где Сулакадзев, ссылаясь на несуществующие рукописи из своего собрания, поведал о посещении Валаама апостолом Андреем Первозванным. Если верить автору, кроме острова тот почтил своим вниманием место, на котором впоследствии возникло село Грузино. Весьма полезное открытие – ведь именно там находилось имение графа Аракчеева!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: