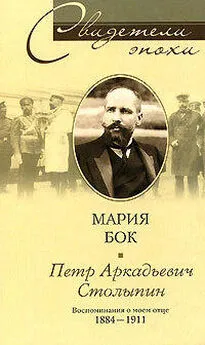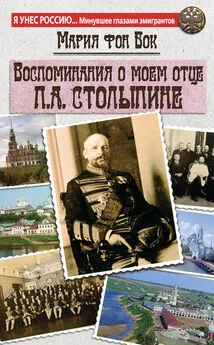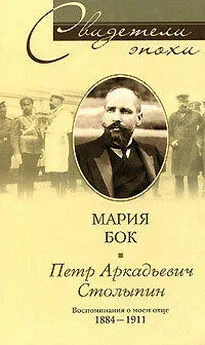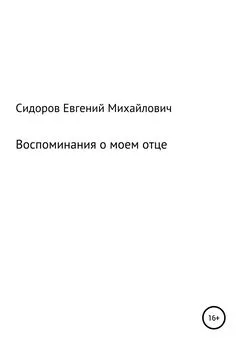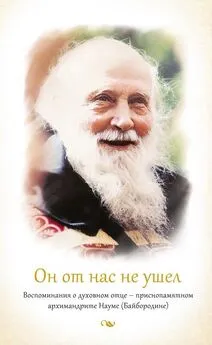Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце
- Название:Воспоминания. Книга об отце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Феникс
- Год:1992
- ISBN:2–906141–14–3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце краткое содержание
Книга Лидии Ивановой — не просто дань благодарной памяти ее отцу, выдающемуся поэту и мыслителю, теоретику и признанному "демиургу" русского символизма Вячеславу Иванову (1866–1949). Это вообще нечто гораздо большее, нежели просто книга.
Ранний вариант первой части мемуаров появился в четырех книжках «Нового журнала» (№ 147–150) в 1982–1983 гг. Эти воспоминания были написаны Лидией Вячеславовной по просьбе профессора Роберта Джексона, председателя Первого международного симпозиума, посвященного творчеству Вячеслава Иванова, в Yale University 1–4 апреля 1981 года. Небольшие фрагменты из второй части, с отрывками из переписки Иванова с семьей, были напечатаны в альманахе «Минувшее», т. 3, 1987.
Воспоминания. Книга об отце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С первых же недель нашей римской жизни вдруг снова заиграла в душе Вячеслава поэзия — после долгого и, казалось ему, окончательного молчания [104] . Он с радостью ходил по знакомым местам — до или после прилежных занятий в Национальной Библиотеке: «Нагулял себе, — пишет он в Дневнике от 5 декабря 1924 года, — запас римского счастья» [105] .
Так рождаются осенью и в начале зимы 1924 года «Римские Сонеты». Цикл написан свободно, без всякого заранее выработанного плана. Он начинается с приветствия:
Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, Вечный Рим.
Но сразу же выявляется и постоянная мысль о России:
Мы Трою предков пламени дарим [106] .
«Неустанная дума, — записывает он в Дневнике от 2 декабря 1924 года, — о нашей революции и о распространении пропаганды о завтрашнем дне Европы. Signora Placidi берет своего Марио из мушкетеров Муссолини, которых снабжают пулеметами. Бесплодный и нерадостный день» [107] .
Муза, однако, не оставляет поэта. Один за другим рождаются девять сонетов. В каждом из них описываются улицы и площади, близкие к нашей квартире, соседний Квиринал и статуи на площади перед дворцом:
Держа коней строптивых под уздцы… [108]
Счастливые, певучие воды римских фонтанов:
И сладостно во мгле их голос гулок… [109]
Баркаччиа, фонтан на пьяцца ди Спанья; тритон соседней с нами пьяцца Барберини; черепахи, которых навещал Вячеслав после работы в Библиотеке, расположенной тогда недалеко от них:
Через плечо слагая черепах,
Горбатых пленниц, на мель плоской вазы… [110]
Фонтан Эскулапа на вилле Боргезе; монументальный Треви, «весть мощных вод», куда мы заглядывали по воскресеньям, после обеда в маленькой траттории. И наконец, Пинчио, откуда любовались горящим закатом над лежащим перед холмом городом:
Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный;
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.
Не медом ли воскресших полных лет
Он напоен, сей кубок Дня венчальный?
Не Вечность ли свой перстень обручальный
Простерла Дню за гранью зримых мет?
Зеркальному подобна морю слава
Огнистого небесного расплава,
Где тает диск и тонет исполин.
Ослепшими перстами луч ощупал
Верх пинии, и глаз потух. Один,
На золоте круглится синий Купол [111] .
Работа над «Римскими Сонетами» — это был радостный и немного смущающий отдых после долгих часов, проведенных в Библиотеке.
Большое исследование Вячеслава о «Дионисе и прадионисийстве», написанное и опубликованное в Баку, было основано на богатом материале, собранном в течение многих лет до революции. Книга — разные ее проекты — была задумана давно. Но в Баку не было никакой возможности познакомиться с литературой, появляющейся на Западе после Первой мировой войны.
Вячеславу хотелось спешно узнать, что было найдено, что опубликовано западными учеными. Он возвращался к Четырем фонтанам с тетрадками, наполненными бесчисленными выписками на разных языках. Несколько лет позже этот материал был им переработан для немецкого перевода его бакинской книги — перевода, им задержанного для дальнейших пересмотров и до сих пор не изданного.
Параллельно с работой над Дионисом появлялись другие мысли и планы. Вячеслав пишет статью о «Ревизоре», которую обсуждает в Риме с Мейерхольдом [112] . Он задумывает статью об «Идиоте», о которой просит Горький [113] . Ему смутно мерещится новая трагедия, «Антигона». Но он не уверен ни в сюжете, ни в возможности быть услышанным современниками.
О возможности «заинтересовать» и быть «услышанным» мы много с Вячеславом разговаривали. Дневник от 5–го декабря 1924 г.:
Пробуждаясь от послеобеденной сьесты, прислушиваюсь к музыкальному «бормотанью» Лидии и начинаю от души смеяться. Открываю к ней дверь, поздравляю с превосходной страницей музыкального юмора: она рада его сообщительности и тоже смеется. Когда я признался ей, что «брожу как вол, ужаленный змеей», влюбившись в нелюбимый замысел, не могущий никого захватить, и что благодаря смуте, внесенной в умы большевиками, никого и ничем вообще не могу заинтересовать, так как миросозерцание мое нынешнему в основе чуждо, — Лидия, по обыкновению драчливым тоном и вместе тоном непреложного оракула, изрекла: «Если сам заинтересуешься, то и другие заинтересуются, а если не заинтересуешься сам, не будет силы и других заинтересовать; миросозерцания же меняются каждые 10–12 лет и ровно ничего не значат; нужно, чтобы не миросозерцанием сильна была художественная вещь, а чистым золотом своего искусства, это золото в цене не падает». Таков приблизительный смысл; а слова ее разве передашь?
Одной из первых забот Вячеслава было продолжение моего музыкального образования.
— Вы едете в Рим? Там вы найдете Респиги, — говорил мне Александр Борисович Гольденвейзер, у которого я окончила курс московской консерватории по фортепьяно.
Респиги знали в России и сам он ее очень любил. Он ездил два раза в Петербург, учился у Римского — Корсакова и одновременно работал в императорском оперном театре, где получил по конкурсу место альта — солиста.
Мы приехали в Италию осенью 1924–го года, как раз к открытию курсов в римской консерватории «Санта Чечилия». В этом году Респиги был ее директором, а также профессором класса высшей композиции. Мы пошли к нему с Вячеславом, и я прихватила пачку своих работ, фортепьянных и вокальных. Он был чрезвычайно любезен, взял мои вещи с собой для более подробного ознакомления. При вторичной встрече он долго сидел с нами в своем классе, был очень внимателен, заставил меня играть ему мои композиции и особенно заинтересовался фортепьянной сонатой.
Ему было тогда 42 года — веселый, солнечный, черты лица похожи порой на льва, а порой на Бетховена.
— Ну, как он тебе понравился? — спросил меня Вячеслав.
— Не знаю, не легкомысленный ли?
— А мне он чрезвычайно понравился.
Я же была удивлена простотой, открытостью, полным отсутствием педантизма, которым нередко отличаются педагоги.
В Италии на факультете композиции учатся десять лет. В первые четыре года изучается гармония, в 5–6–ой и 7–ой год — контрапункт и фуга, и, наконец, на старших трех курсах — оркестровка и свободное сочинение.
Респиги записал меня на девятый, предпоследний год, засчитав все мои экзамены в России и, что самое главное, экзамен фуги, который я так мучительно сдавала два раза в Баку.
Через месяц начались занятия. Первый студент, которого я встретила в классе Респиги, был Фернандо Джермани, будущий знаменитый органист. Мы с ним всегда вместе возвращались из консерватории домой. Годом старше (уже на 10–ом курсе) был тогда Марио Росси, будущий известный дирижер. Всего нас было в мое время человек девять. Все сделали карьеру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: