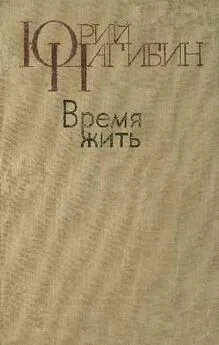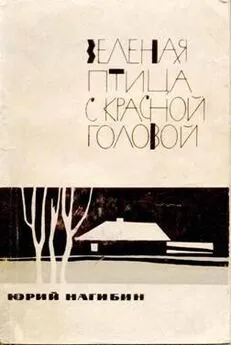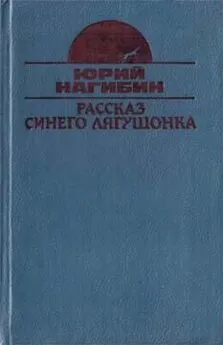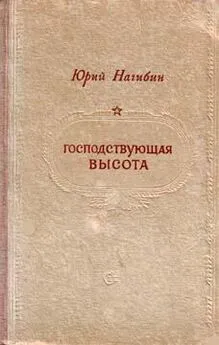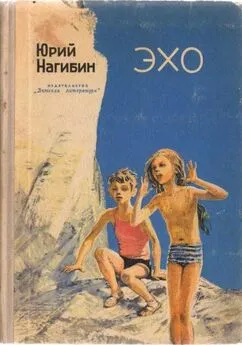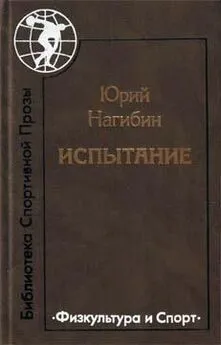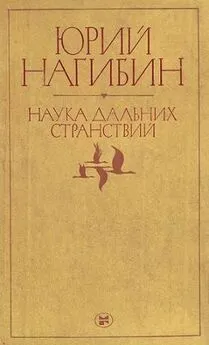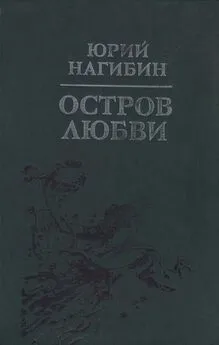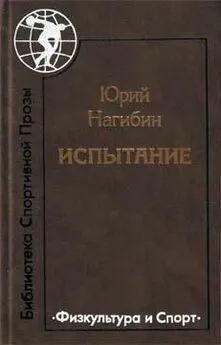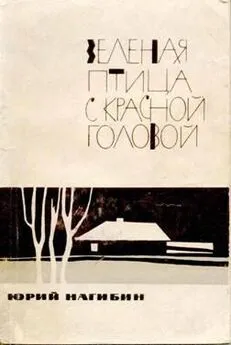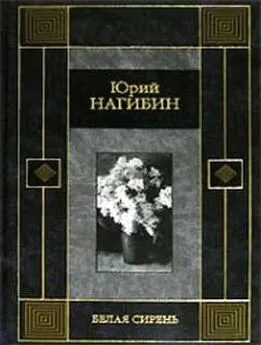Юрий Нагибин - Сергей Тимофеевич Аксаков
- Название:Сергей Тимофеевич Аксаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - Сергей Тимофеевич Аксаков краткое содержание
Литературный портрет С. Т. Аксакова и его сыновей Константина и Ивана.
Сергей Тимофеевич Аксаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Благородная, горячая, порывистая мать героя хроники Софья Николаевна — один из лучших женских образов в русской литературе. Рядом с ней может быть поставлена монументальная фигура Прасковьи Ивановны Куролесовой, набравшей после смерти мужа-разбойника и характера, и стати.
Славных людей встретил Сережа Багров в Казани и дал им жизнь вечную на страницах «Воспоминаний»: это и преподаватель математики Карташевский, тип умного наставника, и надзиратель той же гимназии добряк Упадышевский, и славный доктор Бенис, спасавший тело и душу тяжело расхворавшегося от разлуки с матерью мальчика, и многие другие — выходит, русская провинция состояла не только из Ляпкиных-Тяпкиных, Земляник и Шпекиных.
Не следует думать, что все писания Сергея Тимофеевича залиты сладким медом прекраснодушия. Славянофилы, правда, пытались противопоставить его «разоблачительному направлению», как тогда называли критический реализм, но достаточно одного Куролесова, чтобы разрушить идиллию, а есть еще старший инспектор гимназии, самолюбивый и безжалостный формалист Камашев, есть немало противных и типичных для того времени и той среды людей среди близких родственников юного Багрова: его тетушки — интриганки и сплетницы, их тупые, до совершенства ничтожные мужья, словом, человеческого брака хватает, но он не может затенить той крепкой и жизнеспособной России, которая встает со страниц аксаковской хроники.
Русскую жизнь первой трети прошлого века мы видим как бы сквозь призму Пушкина. Его оценки для нас закон, мы судим о людях по тому, как к ним относился Пушкин или по тому, как они относились к Пушкину. Мы не признаем Николая Полевого, потому что Пушкин после короткого доброжелательства вдруг невзлюбил литератора-плебея и принялся безжалостно язвить его. А ведь когда-то «Московский телеграф» всколыхнул стоячие воды русской журналистики, да и сам Полевой был личностью незаурядной. Но Пушкина не смягчила даже горестная участь Полевого: его журнал закрыли за критику лжепатриотической драмы Кукольника. В угоду Пушкину мы забываем о дерзком редакторе «Телеграфа» и помним лишь Полевого со сломанным хребтом, когда, задавленный и нищий, он принимает сухой хлеб из рук Булгарина. Едва ли не в большей мере это относится к такой значительной фигуре, как адмирал Шишков — глава литературного общества «Беседа любителей русского слова», президент Российской академии. Правда, Пушкин оговорился раз добрым словом о Шишкове, связывая некоторые чаяния с назначением его министром просвещения: «Сей старец дорог нам; он блещет средь народа //Священной памятью двенадцатого года» (Аксаков взял эти строки эпиграфом к своему очерку о Шишкове), но это не ослабляет яда знаменитой эпиграммы:
Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто ж глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!
А ведь Шишков делал доброе дело, когда отстаивал самостоятельность и чистоту русского языка, слишком уж засоренного иностранными словами, особенно галлицизмами. Конечно, смешно придумывать для прочно вошедших в речевой фонд «калош» тяжеловесное слово «мокроступы», но бороться за родной язык в обществе, почти разучившемся говорить на нем, — дело святое. Он и адмирал был серьезный и уж никак не злобный шут, угрюмей и тупой ретроград. Оригинальный, добрый, бескорыстный русский человек с милыми чудачествами и твердыми жизненными принципами. Таким рисует Александра Семеновича Шишкова близко знавший его Аксаков, чем вносит необходимый корректив в образ человека, неугодного Пушкину и потому дружно осужденного потомками.
Так же неожиданно раскрывается у Аксакова и второй член «угрюмой» триады — князь Шаховской, плодовитый драматург, крупный театральный деятель, превосходный режиссер и знаток сцены. Он был ни угрюм, ни зол, ни глуп, а очарователен, с детской непосредственностью, милой шепелявостью, бешеными вспышками тут же проходящего гнева, с безграничным добродушием. В быту нелепый, часто смешной, но очень полезный деятель русского просвещения, с которым охотно соавторствовал Грибоедов.
Жалко, что Аксаков не сделал сходного усилия ради осмеянного пушкинским кругом Николая Полевого, которого знал в пору лучшей его деятельности. А ведь в какой-то момент Сергею Тимофеевичу стали претить грубые выпады против редактора «Телеграфа», хотя он и сам принадлежал к стану его противников. Но уж слишком отвращали его вульгарность и самонадеянность одаренного журналиста из купцов.
С. Т. Аксаков оставил интересные воспоминания о великане русской поэзии Державине, правда, поры его угасания и о некоторых второплановых фигурах, без которых все же неполна картина культурной жизни России первой половины XIX века: об актере Шушерине, писателе Загоскине, «первом ополченце» — литераторе Сергее Глинке, театральном деятеле Коковцеве, популярном водевилисте Писареве. Его, как позднее Лескова, привлекали фигуры своеобычные, чудаковатые, пусть до шутовства, но с золотой сердцевиной человечности, которую он обнаружил даже в нетерпячих, фанатичных «мартинистах», не принял он лишь их главу — злого честолюбца Лабзина.
Среди мемуарных очерков Аксакова выделяется значительностью и важностью для всех, кому дорога русская литература, «История моего знакомства с Гоголем». Любил ли Аксаков кого-нибудь так беззаветно и преданно, как Гоголя? Но такова его художническая честность, что, не переставая оплакивать внезапную кончину Гоголя, он вынуждает себя к предельной беспристрастности. И при этом никогда не воспользуется беззащитностью ушедшего перед судом оставшихся. Он обстоятельно и жестковато рассказывает, как трудно шло их сближение. Гоголь и вообще был неудобным для общения человеком. Он ощущал свою литературную деятельность как мессианство, из дали лет это еще можно понять, но признать в сотрапезнике Спасителя — тут нужны чудеса вроде воскрешения Лазаря. Гоголь не умел и не хотел приспосабливаться к другим, для этого у него просто не оставалось душевных сил. Людям это представлялось высокомерием. Как холодно и небрежно отклонил он помощь Аксакова в постановке «Ревизора» на московской сцене, с которой не справился Щепкин. Аксакову было и обидно, и больно, он не скрывал этого, но все же нашел в себе силу простить Гоголю его необъяснимую эскападу. И в дальнейшем, когда отношения стали до конца дружественными, доверительными и откровенными, Гоголь не раз ставил в тупик прямолинейного Сергея Тимофеевича. Однажды, когда тот почти в экстазе взмолился, чтобы всевышний даровал Гоголю здоровья, сил и времени для окончания великого труда — «Мертвых душ», Гоголь присоединился к нему почти в тех же выражениях. Он как будто о другом человеке говорил, недоумевал Аксаков в письме к сыну. Он не осуждал Гоголя, чувствуя его необыкновенную душу лучше, чем многие другие, но и он не постигал подвижнического отношения Гоголя к своей литературной задаче. Он понял это, когда Гоголя не стало, и сказал о нем — святой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: