Андрей Битов - Пушкинский том (сборник)
- Название:Пушкинский том (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-084193-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Битов - Пушкинский том (сборник) краткое содержание
«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.
Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.
Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.
Пушкинский том (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом – горы: «Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины…»
Стихия – внизу. Пушкин царит, парит над стихией.
Саранча – «все съела и опять улетела».
Страсти – карты, любови – всё это в романтизме поэм. Венец – Алеко с кинжалом.
Дальше – история. История как стихия воплощена в «Годунове». «Народ безмолвствует» – не проекция ли сходящего с ума маленького человека?
Кризисы типа «что делать?»: стреляться, бежать за границу, жениться? – преобразуются в творческие взрывы 1825, 1830, 1833 годов, сравнимые со стихийными бедствиями.
Стихии природы, страсти, азарта, битвы, гения и судьбы сплетаются воедино – в безумие мира.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?…
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Хочется, конечно, чтобы «Не дай мне Бог сойти с ума» так же принадлежало 1833 году, как «Пиковая дама» и «Медный всадник». Как свиваются в нем стихия бури и безумия в один образ! Победа над безумием – не метафора для поэта, а подвиг духа. Природа гармонична лишь под взглядом, внизу. «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?» – вопрошает поэт в день рождения, на подступах к «Полтаве», очередному осмыслению безумства исторического:
Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен…
Петр на поле битвы как будущий Германн за игорным столом.
В безумии вдохновения 1830 года пишутся и «Бессонница», и «Бесы»:
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.
Что безумие не только в тебе, не только в твоем окружении, а в самой природе – «равнодушной природе» – страшная метафизика!
Равнодушие и насмешка… Никто после Пушкина не найдет этих слов.
Откуда смотрит на поверхность будущего текста Пушкин?
Там – поле боя, сукно игорного стола подвижны, как оловянные солдатики, персонажи, герой выделяется, произносит монолог… Всегда у меня ощущение, что смотрит он сверху, но оказывается не свысока – сам он полон снисходительности и сочувствия, разглядывая всех с дистанции вдохновения, на голубом глазу гармонии – свысока на них смотрит еще кто-то, кто видит затылок поэта о ком-то и о чем-то пишущего. Не отсюда ли то необыкновенное ощущение объема пушкинских творений: они трехмерны не только по поверхности изложения, но и по вертикали создания. Вопрос о религиозности поэта не встает: он доверяется вдохновению – вдохновение верит в него.
Сделалась мятель…
В этой буре Петр заложил град, за сто лет он вознесся пышно, горделиво. Петру за это Екатерина поставила конный монумент. Однако сто лет – это не 1703–1803, а 1725–1824, между двумя потопами: один унес жизнь Петра, а другой – жизнь бедного Евгения. Намек этот утонет на первой же странице поэмы.

Кто герой – Петр, Евгений или Нева? Город, памятник или человек? Государство или стихия, история или время? Количество поставленных в поэме вопросов впечатляет: все!
Ответ Пушкина – в полноте отсутствия ответов. Поэма – та же стихия.
Стихия – это другое чувство времени: взыграет, когда не ждешь, и закончится вопреки отчаянию.
…А по телевизору, где-то на дне океана, произошло извержение вулкана, которого никто не наблюдал. Но посреди океана, над вулканом, спроектировалась точка. Точка эта ожила, повернулась, прихватив соседней воды, свилась в вороночку, воронку, приподнялась, разрастаясь, поползла по необъятной поверхности, как карандаш по бумаге, как джинн из бутылки, как перст указующий, вращаясь и превращаясь в столп, вздымаясь, как взывая, к небу. Изначальная серость наливалась, расширяясь, чернотой. И вот уже будто не из океана, а с неба на землю опустился, вонзился в гладь океана гигантский черный клык: высоко в небе черным воротничком обозначилось конечное кольцо: эта дьявольская трубка окончательно раскурилась, поднося свой чубук то ли к Японии, то ли к Курилам… В голубом небе легкомысленно серебрился самолет-исследователь, приближаясь к клубящемуся черному конечному краю кольца. «Сейчас нас немного потреплет, – с профессиональным шиком комментировал пилот, – мы влетаем в ГЛАЗ БУРИ.Там уже будет спокойно».
Глаз бури! (По-русски это звучит еще и как «глас бури». Ментальная путаница гласности и прозрачности…) Я был очарован и зачарован: самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево, болтало, и вдруг… Тишина и покой; небо голубее, чем снаружи, наверно потому, что окружено черным кольцом. Мы пересекли глаз по диаметру. «Влететь – что, – сказал летчик, – вылететь – вот проблема!» Однако он уверенно вылетел. Нас пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные небеса.
Что долгосрочнее – легенда или миф?
Летчик оказался археологом, произведя раскопки в небесах.
Лермонтов влетел, Пушкин – вылетел. Если Лермонтов – легенда, то Пушкин – миф. Светлый тайфун, прогулявшийся по России, наведя хоть какой-то порядок в ее перманентной разрухе.
Все мои робкие метафоры и образы, полвека сопровождавшие меня при мысли о поэме Пушкина, были перекрыты этой кинохроникой. Зеленое сукно игорного стола, ширь небес ли океана, поле битвы, ясность сознания – всё сошлось в этом глазе бури. В него можно влететь, но из него надо и вылететь… «Не дай мне Бог сойти с ума…» Даже последняя дуэльная история поэта представилась мне не роком, а выбором.
Не знаю, как исследователи подбираются к одновременности написания «Медного всадника» и «Пиковой дамы». Обобщает их не только дата написания, но и безумие героя. Тема или опыт? Если Петр это тема, то безумие если и не опыт, то грань любви и веры. Не плод воображения.
Пушкин всегда предпочел бы гибель безумию. Он был нормальный человек.
Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражения и победы, проигрыша и выигрыша, безверия и веры нормализовано его текстом.
5 мая 2002, Пасха, СПб
P.S.–2003. Я всегда считал русскую повесть уникальной в мировой прозе [24], сам любил писать в этом жанре, полагая, что изнутри чувствую его. Но однажды Розмари Титце, моя неизменная переводчица, работая над отдельным изданием повести «Вкус», спрашивает, как на титуле обозначить жанр (немецкому читателю важно знать, чт оже он читает, а тут для романа мало, для рассказа много). Повесть, говорю я. «Нет такого по-немецки! – настаивает Розмари. – Кстати, можешь ты мне, наконец, внятно объяснить, что такое повесть?» И я вдруг заблудился в точном определении: не рассказ, не новелла, не long-short story, не роман… Выручил опять Пушкин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





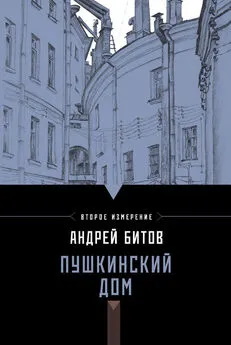
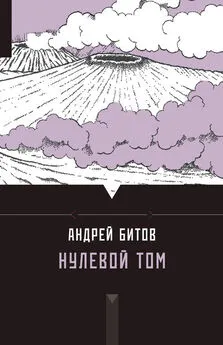

![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/1146720/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik.webp)