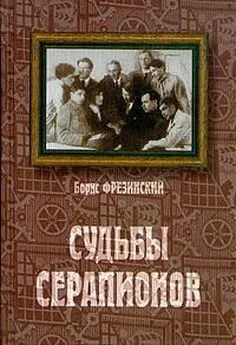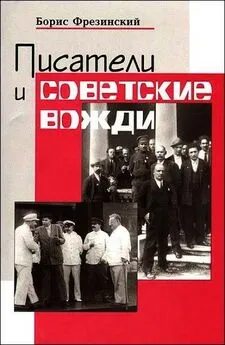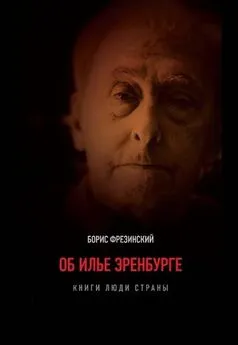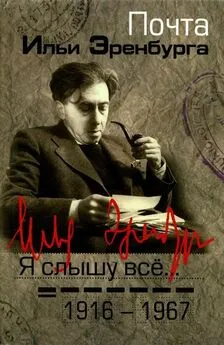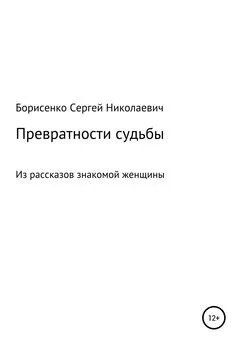Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов
- Название:Судьбы Серапионов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0168-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов краткое содержание
Книга Б. Я. Фрезинского посвящена судьбе петроградских писателей, образовавших в феврале 1921 г. литературную группу «Серапионовы братья». В состав этой группы входили М. Зощенко, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Слонимский, К. Федин В. Каверин, Л. Лунц, И. Груздев, Е. Полонская и Н. Тихонов.
Первая часть книги содержит литературно-биографические портреты участников группы (на протяжении всего творческого и жизненного пути). Вторая — на тщательно рассмотренных конкретных сюжетах позволяет увидеть, как именно государственный каток перемалывал судьбы русских писателей XX века, насколько губительным для них оказались попытки заигрывать с режимом и как некоторым из них удавалось сохранять человеческое достоинство вопреки обстоятельствам жестокого времени. Автор широко использовал в книге малоизвестные и неопубликованные материалы государственных и частных архивов. В качестве приложения публикуются малоизвестные статьи участников группы, а также высказывания их коллег, критиков и политиков 1920-х гг. о Серапионовых братьях.
Судьбы Серапионов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Летом 1920 года в Петрограде был создан Союз поэтов; более ста желающих вступить в него представили свои стихи, и приемная комиссия в составе А. Блока, М. Лозинского, М. Кузмина и Н. Гумилева, рассмотрев их, выносила окончательное решение — принять или нет. Заявление Полонской обсуждали 7 сентября 1920 года. Письменные отзывы мэтров на представленную рукопись стихов сохранились —
Блок:«Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней мере, современные, но, кажется, голос её очень слаб и поэта из неё не будет»;
Лозинский:«По-моему, Е. Г. Полонскую принять в Союз следует, хотя бы в члены-соревнователи. Её стихи не хуже стихов Вс. Пастухова [328] В альманахе «Дом Искусств» (СПб, 1921. № 2. С. 113) упоминается выступавший в Доме Искусств пианист В. Пастухов, исполнитель новой французской музыки; м. б. он был автором понравившихся Блоку стихов?
(принятого по рекомендации Блока в действительные члены ни тогда, ни теперь никому не известного автора, надо полагать, с очень „сильным“ голосом; это замечание Лозинского — несомненный укор комиссии — Б.Ф.)»;
Гумилев:«В члены-соревнователи, я думаю, можно».
Кузмин:«По-моему, можно» [329] Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987. С. 688.
.
Е. Г. Полонская была принята в члены-соревнователи Союза поэтов.
На робкую ученицу Полонская не походила; в её мемуарах рассказывается, как однажды на занятиях она читала Гумилеву свои стихи
Я не могу терпеть младенца Иисуса
С толпой его слепых, убогих и калек,
Прибежище старух, оплот ханжи и труса,
На плоском образе влачащего свой век…
и как наступило грозное молчание: Николай Степанович встал и демонстративно вышел, а в это время с другого конца стола поднялась Лариса Рейснер, приветствуя прочитанное [330] Простор (Алма-Ата). 1964. № 6. С. 113.
…
В 1921 году в петроградском издательстве «Эрато» вышла первая книга стихов Полонской «Знаменья». Эта книжка запечатлела романтически-суровые черты времени, её пафос был строг. Автор послала «Знаменья» в Москву Льву Троцкому. Ответ, запечатанный красным сургучом, фельдъегерская почта доставила ей на дом. Пылкая Мариэтта Шагинян, близкий друг, в письмах к Полонской так не похожая на свои печатные опусы, включая злополучную лениниану, наставительно требовала в 1921 году: «Пиши поэму о Троцком!». А Полонская в те дни записывала в дневнике: «Почему я не коммунистка? Две причины, обе — психологические. 1) Я не испытываю активной любви к людям. Я ощущаю их как трагический материал. 2) Мне претит комлицемерие» [331] Текст записи из рабочих тетрадей Е. Г. того времени и письмо М. С. Шагинян предоставлены покойным М. Л. Полонским.
.
Книжку «Знаменья» всегда любил Виктор Шкловский. В «Сентиментальном путешествии» (1923) его портрет Полонской составлен из нескольких строк: «Пишет стихи. В миру врач, человек спокойный и крепкий. Еврейка, не имитаторша. Настоящей густой крови. Пишет мало. У нее хорошие стихи о сегодняшней России, нравились наборщикам» [332] В. Шкловский. Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 268. Имитатором Шкловский назвал Эренбурга, и это у Серапионов прижилось.
. Рецензией на «Знаменья» откликнулся Б. М. Эйхенбаум: «Здесь стихи о нашей — суровой, неуютной, жуткой жизни. Здесь наш Петербург — „виденье твердое из дыма и камней“. Стихи Полонской выделяются своей экспрессией: в них чувствуется мускульное напряжение, в них есть сильные речевые жесты. Традиции Полонской определить точно еще трудно, но кажется мне, что она ближе всего к Мандельштаму… Она не поет, а говорит — с силой, с ораторским пафосом… Есть в сборнике очень удачные вещи — именно те, где есть повод для торжественной речи, для ораторской экспрессии…» [333] Книжный угол. Пг., 1921. № 7. С. 40–42.
. Георгий Иванов в журнале «Цех поэтов» писал: «в „Знаменьях“ с первых строк чувствуется свой голос. И это несомненно голос поэта… Самое ценное в творчестве Елизаветы Полонской — её яркая образность, соединенная с острой мыслью…» [334] Цех поэтов. Петроград, 1922. Кн. 3. С. 67–68. Одно замечание рецензента оказалось курьезным: «Ахиллесова пята ее творчества — язык»; возникло оно от того, что Г. Иванов ухватился за строчку «На языке чужом Его неловко славлю» (впопыхах он даже процитировал её неточно, чтобы скорей сделать вывод: «Поэт сам признает, что русский язык для нее чужая стихия»), не поняв элементарного: речь идет о языке, чужом для иудейского Бога, а не для поэта (для Е. Г. русский язык был родным). Поэтому все «надежды» рецензента, что автор найдет в себе силы преодолеть «органический порок» и т. д. — выглядят нелепо. Г. Иванов был знаком с Полонской по Дому Искусств.
; любопытно несовпадение восприятий поэзии Полонской обоими рецензентами (Эйхенбауму близки стихи о современности, а Г. Иванов выделил любовную лирику и стихи на еврейскую тему). Илья Эренбург в берлинской рецензии на «Знаменья» подчеркивал: «Полонская достигает редкой силы, говоря о величии наших опустошенных дней. Ее книга — о Робинзоне, потерпевшем кораблекрушение и посему познавшем очарование ранее незаметных и скучных вещей. Это новая вера» [335] Новая русская книга. Берлин. 1922. № 3. С. 9.
.
«Знаменья» открывались романтическими стихами, посвященными Александру Блоку; их последнюю строфу не раз цитировали:
И мы живем и, Робинзону Крузо
Подобные, за каждый бьемся час,
И верный Пятница — Лирическая Муза,
В изгнании не покидает нас.
Полонская понимала Революцию как явление Природы, и принимала её. Отношение к новой власти было совершенно иным. Впрочем, эта власть за 10–12 лет идеологически круто изменилась, постепенно подчиняя себе все сферы деятельности граждан. Предвидеть это во всем объеме Полонская не могла, но еще в 1921-м со многим прощалась:
Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой…
«Когда я перечитываю эти стихи, — вспоминала Полонская свою первую книгу, — я вижу неосвещенный в снежных сугробах Невский и себя в валенках и кепке, бредущей с ночного дежурства в 935 госпитале, что на Рижском, по направлению к Елисеевскому дому на Мойке, тогдашнему „Дому Искусств“, где за барской кухней в „людском“ коридоре, прозванном „обезьянником“, в комнате Миши Слонимского собирались Серапионовы братья» [336] Мемуары Полонской цитируются по авторским машинописям.
.
В 1921-м Полонская пришла к Серапионам. Её стихи понравились. В них были дух времени, которое переживали все, и были свои темы. Писала она и на библейские, соотнося происходящее в стране с древностью; она умела сказать о том, что её занимало, обращаясь к классическим образам:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: