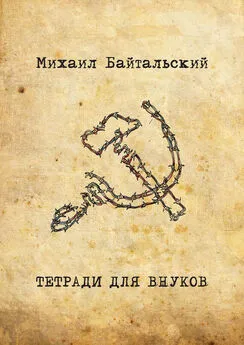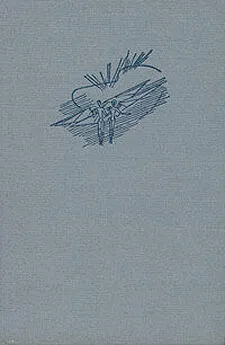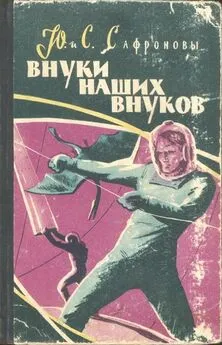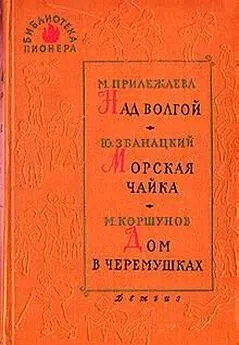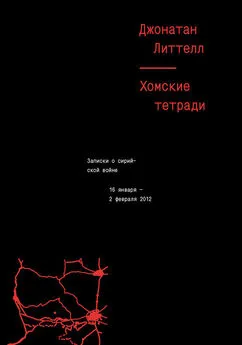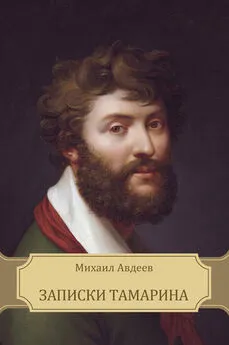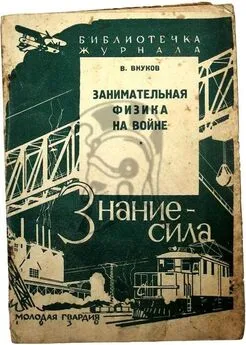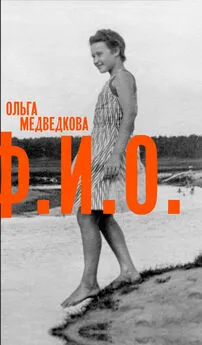Михаил Байтальский - Тетради для внуков
- Название:Тетради для внуков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книга-Сефер»dc0c740e-be95-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Байтальский - Тетради для внуков краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно – никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22».
Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое – эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелицеприятной истины.
Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадям», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.
Тетради для внуков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И второе поколение вынуждено еще сильнее нажимать на тот единственный рычаг, которым оно располагает: сознательное ограничение числа детей. Этот процесс начался в двадцатых годах на почве, имевшей в некотором роде идейный оттенок. Но тогда он затронул лишь городское население, не столь многочисленное в те годы. Тогда с легкостью закрыли глаза на грядущую реальную опасность, чтобы тем громче кричать о насущной, но мнимой. О падении рождаемости заговорили, когда уж и внучки заневестились. А что оно собою представляет, как не ответ женщин на то, что с ними произошло? Это единственный возможный их ответ, их многолетняя забастовка, дружная, молчаливая, ненаказуемая и грозная. Перед нами редкий случай, когда общество стихийно дает свою оценку деятельности государства в одной из важнейших для жизни народа отраслей. Кто посмеет обвинить общество, что его оценка неверна?
Труд советской женщины широко используется во всех отраслях, включая и черные работы, ей непосильные (а вместе с тем, процент женщин среди партийных и советских руководителей неизмеримо ниже, чем в сфере рядового труда). Труд женщин нужен государству – нужен по многим причинам. И оно освобождает ее от сидения дома в той мере, в какой она нужна ему вне дома – но это покупается ценой удвоенной по напряжению домашней работы после окончания рабочего дня. Ссылаться на всякие домашние технические устройства – стиральные машины, посудомойки, холодильники и прочее – лицемерно. В капиталистических странах их больше, чем у нас. Они созданы не для раскрепощения женщины, а для комфорта – наравне с лифтом, электробритвой или центральным отоплением. Они облегчают домашний труд, но не снимают с женщины ни одной из ее кухонных обязанностей.
Сопоставьте же слова Ленина в его статье "Великий почин" (я их не цитирую, они достаточно хорошо известны) с современным положением трудящейся горожанки, тратящей на домашнюю работу, согласно статистике, тридцать четыре часа в неделю – и без выходных.
Особенно трудно стало моей дочери и миллионам ее сверстниц, когда их дети подросли и стали школьниками. Тут уж ниоткуда нет никакой помощи. Эти женщины, имеющие двух детей-школьников, практически не имеют ни одного свободного вечера в самые зрелые годы своей жизни. Надо сварить обед на завтра, надо чинить детям одежду, стирать, и очень часто – помогать в приготовлении уроков.
Как же так вышло? Раскрепощение Евы от кухни и пеленок, которое было вершиной ее устремлений как женщины и позволило ей стать членом партии, борцом, работницей женотдела, партийным секретарем, – обернулось для ее дочери более чем тринадцатичасовым рабочим днем. День этот начинается в шесть двадцать утра приготовлением завтрака и все еще не закончен в девять вечера, когда она убирает со стола после ужина и принимается готовить обед на завтра.
Будь Ева жива, она, вероятно, исполняла бы при дочери ту же роль (хотя бы частично), что ее мать при ней. Но тещу это не тяготило, она думала, что так от бога положено. А Ева, добившаяся в свое время свободы, что бы она думала? Что бы чувствовала она, вспоминая свою работу, которой отдавалась с такой страстью?
Среди подруг Евы не было ни одной, работавшей так тяжело, как сегодня работает ее дочь. Среди подруг дочери нет ни одной, которая работала бы так самозабвенно, как работала в свое время Ева. Без исследования подводной части этого явления, столь огромного и в надводной своей части, – можно ли обойтись?
Вспоминая Еву, с таким трудом менявшую свои убеждения, привычки и (особенно) предрассудки, пробую представить ее в обстановке сегодняшнего дня. Простой пример из повседневности: вы работаете там, где Ева – секретарь парторганизации, и хотите поехать в качестве туриста за границу. Там, у "них", это просто: купил билет, в течение часа получил визу (разумеется, если не к нам) и – в путь. У нас надо заполнить анкету, написать автобиографию и – самое главное! – получить характеристику первичной парторганизации, независимо от того, коммунист вы или беспартийный. Характеристику напишет Ева – мы ведь пробуем перенести ее в наше сегодня.
Затем вас вызовут в райком партии, побеседуют, и все ваше "выездное дело" поступит в инстанцию, куда вас не вызовут, но где единственно вправе решать окончательно, можно ли вам ехать? Ясно, что если вы не состояли там до сих пор на особом учете, то характеристика, выданная Евой, окажется достаточно важным документом. Кому лучше всех знать, что вы за человек?
Каким же должен быть секретарь, пишущий характеристику каждому? Конечно, он обязан быть бдительным, чтобы не выпустить потенциального невозвращенца. Кроме того – хорошо осведомленным о вас, о вашей жизни, мыслях, настроениях. Ленин постоянно напоминал партийцам: изучайте настроения рабочего класса! Известно, как он любил беседовать с ходоками из дальних углов России.
Теперешний секретарь, дающий характеристику беспартийному товарищу, захотевшему повидать Польшу, или, что гораздо опаснее, Швецию, тоже должен изучать его настроения. Но какая разница между старым и новым изучением! Там цель была политическая, а здесь – совершенно иная; тогда стремились учесть ваше откровенное мнение, чтобы действовать лучше; здесь заранее знают, как действовать, если вы станете слишком откровенничать.
В последние годы своей жизни Ева была понижена в должности. Видно, она не годилась для новых условий. Ее святое служение не требовалось.
Жизнь с Евой у нас так и не наладилась. Правда, мы не устраивали семейных сцен. Из – за тонких стен коммунальной квартиры соседи не слышали ссор, а брани – и подавно. Но ни мыслями, ни пережитым мы не делились. Дружба исчезла давно, любовь – испарялась.
Как и в Харькове, мои друзья не баловали нас своими посещениями – то ли из-за дальности, то ли из-за Евиной чрезмерной прямоты: она не умела держаться притворно любезно с теми, кто ей неинтересен. Часы, свободные от работы и от возни с железками, я проводил у Саши Рацкина или у Володи Серова. Мы не пили, разговоры наши касались чаще всего литературы. Бывали и разговоры окололитературные: то анекдот (обычно приписываемый Радеку), то чья-нибудь хохма.
В квартире Цыпина к окололитературным разговорам примешивались околоначальственные. И он, и его жена вращались в высоких сферах. Ева была знакома с обоими, но к ним со мной не ходила. Их она тоже недолюбливала, видимо, потому, что с ее точки зрения, они недостаточно благоговейно относятся к работе, порученной им партией. Мария Яковлевна (она теперь редактировала небольшой журнал) не раз заказывала мне статьи – чистейшую халтуру! – и я выпекал их прямо тут же, за ее письменным столом, излагая стандартно-популярным языком давно открытые истины. Она ставила на стол бутылку красного вина – оно, шутила она, делает мой стиль более доходчивым. Как-то я похвастал перед Евой своим пекарским искусством, – она возмутилась. Я профанирую священную хоругвь!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: