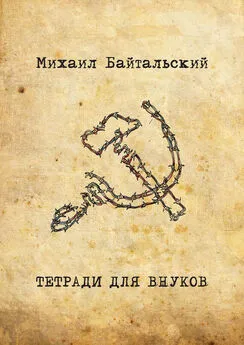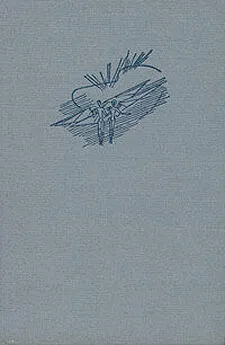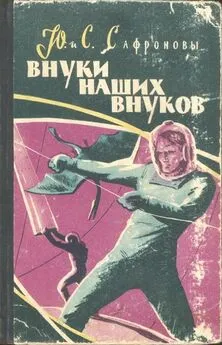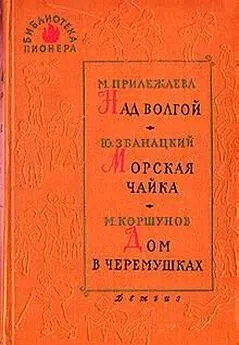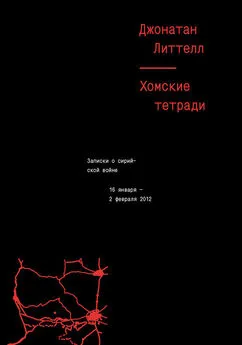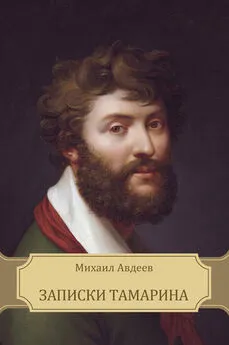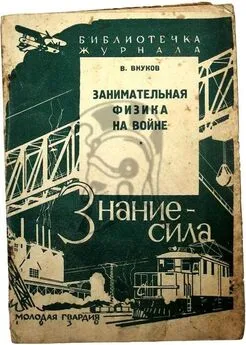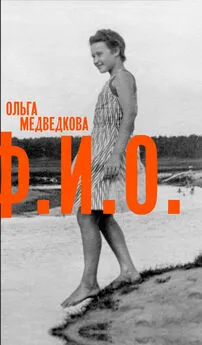Михаил Байтальский - Тетради для внуков
- Название:Тетради для внуков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книга-Сефер»dc0c740e-be95-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Байтальский - Тетради для внуков краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно – никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22».
Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое – эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелицеприятной истины.
Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадям», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.
Тетради для внуков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гриша рассказал, как его посадили.
В 1933 году он получил два года ссылки по постановлению Донецкой областной тройки. Одна лишь история этого приговора может осветить многое из нравов сталинизма.
Причиной всему явилась стычка с небезызвестным в то время Саркисовым, о котором кто-то выразился: "Саркис первый скис". Будучи видным деятелем ленинградской оппозиции (т. н. зиновьевцев), он пространно покаялся в грехах и тут же принялся доказывать свою преданность Сталину уже известным вам способом: предательством.
Жертвоприношение и весь связанный с ним ритуал снятия с работы одних и назначения на их место других обозначали специальным выражением, в котором чувствуется натура его изобретателя: "требуется кровь". Желая стать полноценным человеком Сталина, Саркисов искал, чью бы кровь пролить. Он не знал, что даже река крови его не спасет, что его предательство – совершенный пустяк в сравнении с готовящейся лавиной предательств, что сам вождь предаст десятки тысяч верных своих сторонников и множество личных друзей, в том числе братьев и сестер своей первой и своей второй жены…
Так как своих друзей Саркисов уже предал, он стал искать среди недругов. Одним из них был Григорий Баглюк, писатель и редактор литературного журнала "Забой". Мог ли Гриша не возненавидеть Саркисова, присланного в Донбасс в качестве секретаря обкома, когда он услышал всю историю? На городской партийной конференции он выступил по какому-то вопросу против нового секретаря, а когда Саркисов обрушился на него в той демагогической манере, которая уже входила в моду с легкой руки Сталина, Гриша не поленился сходить домой за томом Ленина, вторично попросил слова и высмеял Саркисова. Можно представить себе мстительную злобу оскорбленного секретаря.
По его указанию и было состряпано дело по обвинению редактора "Забоя" Григория Баглюка в печатании троцкистских стихов на страницах журнала. "Троцкизм" заключался в следующей стихотворной строке Гриши: "По строкам программу комсомола разбирает медленно Василь". Видите ли вы здесь троцкизм? Я – нет. А вот эксперты, уполномоченные состряпать обвинение, углядели. Комсомол, заявили они, своей программы не имеет. Он проводит программу партии. Следовательно, в данной строке комсомол противопоставляется партии. А это был конек Троцкого: молодежь, утверждал ренегат Троцкий, есть барометр революции. Отсюда следует, что автор стихотворения проводит троцкистскую ренегатскую мысль. Вот и доказано!
Эта строка была одним из главных пунктов обвинения. Уже в 1933 году, задолго до кровавого тридцать седьмого, сочиняли юридические фальшивки. И не в Москве, и не по приказу Ягоды или Ежова, а в области, по распоряжению секретаря обкома. Тридцать седьмой не упал с неба.
Грише дали два года ссылки – очень милостиво. Прецеденты жестокости, как-никак, не могли исходить из области.
Обвинение, которое предъявили Грише, сходно с предъявленным Горбатову за "Нашгород". Но Борису повезло, им не занялась "тройка". До выстрела в Смольном не успели еще полностью отработать систему преследований за идейные отклонения, и отдельные акции носили характер разведки боем. Наступление по всему фронту началось в декабре 1934 года.
Гриша отбыл свою ссылку в Казани, работая в артели мостовщиков, о чем я уже упоминал. Получив честь честью документы, сел в поезд и поехал домой. На первом же перегоне в вагон вошли двое и арестовали его. Заочное постановление – дать ему еще пять лет лагеря (а не ссылки) за искупленное, казалось бы "преступление" – было вынесено заблаговременно. Почему Грише позволили побыть два часа на свободе? Так поступали не с ним одним. То был стиль работы, сталинская игра. В свободу, в правосудие, в гуманизм, в кошки-мышки…
… На пороге лагерного барака репродуктор встретил нас песней: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!". Автор ее, Лебедев-Кумач, вероятно, так и думал. В бараках Воркуты песня эта звучала особенно чистой, прекрасной и выразительной правдой.
Воркута глядела в будущее. Требовались люди, побольше людей. До нашего прибытия здесь работали уголовники. В суровых условиях севера, при полной неустроенности лагеря (порой приходилось спать прямо на снегу) они доходили за одну зиму. Слово "доходить" не требует перевода.
Месторождение давало не так уж много угля, но при отсутствии железной дороги и его вывозили с трудом. Кроме того, не хватало специалистов и в механической мастерской, в кузнице и в литейном цехе. Мы прибыли вовремя.
Лагерь еще не был окружен колючей проволокой, но и без нее убежать было невозможно. Вместе с Усой и несколькими разбросанными вниз по реке лагерными подразделениями (т. н. командировками) воркутинские лагеря занимали площадь не меньше какой-нибудь Бельгии. И охраняли ее лишь несколько десятков вышек – да непроходимая тундра вокруг.
Не все ли равно, чем ограждена тюрьма? То, что в камере было скучено на десяти квадратных метрах, здесь разбросано на необозримом пространстве. Все лагерные пункты строились вдоль реки и узкоколейки Уса – Рудник (т. е. Воркута-вом – Воркута, пользуясь официальным названием). Ни телеграфной, ни телефонной, ни, конечно, радиосвязи между ними тогда не было. Когда пурга засыпала узкоколейку, пешком ходило даже начальство. В пургу заключенных выгоняли на самую бессмысленную и изнурительную работу на севере: "снегоборьба". Она имела много общего с вычерпыванием океана ведрами. Но хитрое название создавало впечатление некой борьбы за план. Впрочем, планы "снегоборьбы" в самом деле составлялись.
Я читал описание знаменитой "колесухи" – царской каторги на Каре. Воркута тех лет ушла от нее недалеко. Так же, как с "колесухи", побег с Воркуты был гиблым делом. На это решались лишь немногие из рецидивистов. Если беглец не погибал в горах Северного Урала, он попадал в более обжитой район Сибири. Здесь его и ловили, когда он, вне себя от добытой с таким риском воли, первым делом спешил напиться.
Местное население не сочувствовало беглецам. Хлеб не давали чалдонки ему, парни с махоркой не ждали… Уголовники в большинстве своем не знают чувства благодарности, они могут обокрасть того, кто только что спас их от голодной смерти. Дух предательства стал духом современности.
Встреча с охотником-коми всегда означала: попался! Соблазнительная премия за поимку беглеца (натурой – мука, сахар, порох!) что-нибудь да значит. Отношения между лагерниками и населением строились не на сочувствии, добровольной помощи и благодарности, а на вражде, обмане, воровстве и самообороне от них. Но причины этого не лежат на поверхности. Ненависть к вору и неприятие воровства – разные вещи. Первой мы значительно богаче, чем второй. В частности, если говорить об общественных деньгах, то многие расходы, к которым наше сознание теперь привыкло, при Ленине считались воровством. С другой стороны, при Сталине под хищение общественной собственности подводили сбор колосков на поле после уборки урожая – колосков, которые все равно сгнивали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: