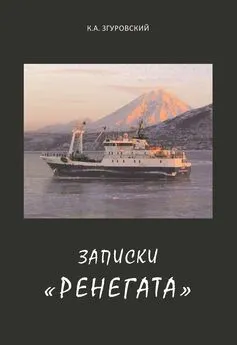Константин Фишер - Записки сенатора
- Название:Записки сенатора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2008
- ISBN:978-5-8159-0832-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фишер - Записки сенатора краткое содержание
«Записки» Константина Ивановича Фишера — действительного тайного советника, сенатора — это блистательные, точные, ироничные зарисовки чиновной России XIX века. Яркая галерея портретов государей и их вельмож: некоторых — служивших с честью, но больше — мздоимцев, казнокрадов и глупцов, подчас делавших карьеру исключительно очинкой перьев…
Записки сенатора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прекрасная вещь — портретная галерея, если всматриваться в нее глубже. Перед рядом портретов министров финансов, помещенных в официальном кабинете министра, взор невольно останавливается на серьезной и грустной физиономии Канкрина: она выдвигается как массивный рельеф над плоскими изображениями. Ряд этих портретов представляет два отдела, среди которых Канкрин один, «как грозный часовой»; перед ним Гурьев, граф Васильев, Голубцов — вельможи. На лицах не видно большого ума, видно самодовольство барское. За Канкриным: Вронченко, Брок, Княжевич — чиновники. В них тоже нет ума, но видно самодовольство чиновничье за исключением разве Княжевича, на лице которого заметно не самодовольство, а простое удовольствие. Эти два типа, первый бледнеет, второй краснеет перед ликом умного, задумчивого Канкрина. Так сенатская портретная галерея императоров рассказывает мне политическую историю сената. Портрет Петра Великого прекрасный, и другой его же, мозаика, сделанная собственноручно Ломоносовым; Анны Иоанновны — плохой; Елизаветы Петровны — лучше; Екатерины II — великолепный; Павла I — дурен; Александра I — приличен; Николая I — дурен; Александра II еще хуже. Стало быть, при Петре и Екатерине считали сенат достойным отличных художественных произведений; при Анне и Елизавете не заботились о том, что в сенате; при Александре I хотели соблюсти приличия; при остальных — жаль было тратить деньги для украшения такого ничтожного учреждения, как сенат. Вот вся его история.
Я аккуратно являлся на дежурство вечером, хотя министр никогда не спрашивал в это время дежурного; но раз опоздал, провожая брата, отправлявшегося в полк, и, как нарочно, случилось, что министр меня требовал. Не найдя дежурного, он положил на его стол записку своей руки следующего содержания: «Савтра в 12 1/ 2часов И. И. Розенберг, в 11 1/ 2часов С. С. Уваров». Найдя на столе эту записку, я написал к обоим директорам повестки, что министр ожидает их завтра в таком-то часу. На другой день, в 9 часов утра, сдал я дежурство другому, как вдруг около 2 часов поднялась в канцелярии суета; произносилось мое имя, и наконец директор Я. А. Дружинин позвал меня к себе.
— Что вы наделали, — говорил он, — вас приказано сменить, да и мне досталось.
Узнав, в чем дело, я представил ему собственноручную записку. Драма была порядочная. Около И часов выбежал министр к дежурному, со всем стуком своих толстых сапог, и закричал: «Когда приедет Уваров, скажите ему, что я сам буду ездить к нему с таклатом (докладом)». Уваров приехал и дежурный пересказал ему, что велено. Уваров приказал доложить министру, что он желает сказать два слова, но Егор Францевич отвечал: «Пускай он идет фон!» Затем приехал и Розенберг, которого Канкрин стал бранить, что он опоздал целым часом. Розенберг показал повестку, а Уваров между тем прислал и свою, и весь ураган обратился на меня, 18-летнего юношу. Дружинин показал Егору Францевичу собственноручную его записку. «Попросите извинения у дежурного, я сам напутал».
В следующую очередь, Канкрин вышел ко мне и спросил мое имя.
— Вы читаете немецкие газеты?
— Не представляется к тому случая, ваше превосходительство.
Пошел опять в кабинет и вынес мне «Allgemeine Zeitung». С тех пор я стал знаком с министром.
Через несколько месяцев раздавали канцелярии денежные награды; я ничего не получил, да и не ожидал. Мой начальник отделения вздумал ставить мне в упрек, что я не просил начальника I отделения, мне постороннего, и когда я отозвался, что это его дело было просить обо мне, он отвечал: «Да-с, я рад, что мне самому дали!» — «Если у вас такие правила, то я не хочу служить у вас», — заметил я ему — и подал в отставку. Разумеется, никто об этом не тужил, и меня уволили.
К счастью, эта выходка прошла безнаказанно: я вскоре получил место в департаменте мануфактур, и еще лучшее. Служа в этом департаменте, я, со всеми другими, присягал на верность Константину Павловичу и, благодаря райскому спокойствию Сергиевской улицы, где был департамент, и Выборгской стороны, где я жил, 15 декабря 1825 года я не знал, что накануне была революция, ни того, что государя моего зовут не Константином, а Николаем.
15 декабря утром матушка предложила мне идти с нею к М. И. Галяминой, жившей у сына, в здании Главного штаба. Первый предмет, нас поразивший, встретили на том месте, где Большая Миллионная входит в Дворцовую площадь: тут стояли орудия и около догорающих костров грелись канониры; подвигаясь по площади, видели мы изрытый снег, изредка места, покрытые свежим снегом, далее отряды войск; спрашиваем у прохожих, что это значит — нам никто не отвечает. Перед зданием Главного штаба стоял строй, кажется, Измайловского полка; перед ним верхом Николай Павлович, бледный как полотно. На вопрос сторожу, стоявшему у дверей подъезда, что это все значит, он отвечал лаконически: «Присягают!» — и более ничего.
Так вошли мы к Галямину; в передней стоял солдат и офицер; пока мы снимали шубы, вышел Галямин и отдал офицеру шпагу, а нам сказал второпях: «Не говорите маменьке». Только от старушки Галяминой узнали мы, что было. Она рассказывала с трепетом за обожаемого сына, что он получил ночью повестку явиться во дворец для принесения присяги государю Николаю, что сын не поехал, отзываясь, что в толпе ничего не значит один полковник, — но когда начался бунт, то заперли ворота, и, вероятно, станут считать, кого во дворце нет. Так это и было. Галямина недосчитывались, и потому он был арестован.
Между тем через Ростовцева знали уже накануне имена некоторых заговорщиков, в числе которых был и полковник Генерального штаба Искрицкий. Его арестовали, лакеев взяли к допросу, и один из них показал, что в минуту ареста или несколько ранее барин посылал его с запиской к Галямину. Галямин показал, что записку сжег; о содержании записки его показания не сошлись с показанием Искрицкого, и дело приняло оборот серьезный. Следственная комиссия не изобличила Галямина, но на нем осталось подозрение, и он был переведен в Нейшлотский полк, стоявший на Аланде.
Когда прошли первые впечатления, о Галямине стали намекать государю его доброжелатели, но он и слышать не хотел о нем. Через многие годы граф Нессельроде поручил Галямину разграничение Финляндии с Норвегией, — и по окончании им (очень дурном) этого поручения снова просили о прощении его; однако все эти просьбы окончились бриллиантовым перстнем; между тем Галямин, отличный офицер, замечательный пейзажист, стал пить от скуки.
Прошли еще годы. Раз государь жаловался на недостаток в русских патриотизма; повсюду видел он выставки заграничных пейзажей, а русского — ни одного! Князь Волконский заметил, что это происходило не от недостатка патриотизма, а от недостатка поощрения. Тотчас отправили к Галямину курьера за его знаменитым акварельным альбомом. Князь Волконский представил альбом государю, который был от него в восхищении. «Кто это рисовал?» — «Галямин». Но все-таки государь не согласился перевести его в Генеральный штаб. Из альбома государь выбрал некоторые пейзажи и заказал для императрицы фарфор с их изображениями, а Галямина назначили директором фарфорового завода. Странная судьба: сторож, квартальный, математик, геодез, придворный кавалер и — начальник фарфорового завода. Точно видоизменения насекомого: жук, червяк, стрекоза, бабочка, куколка!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
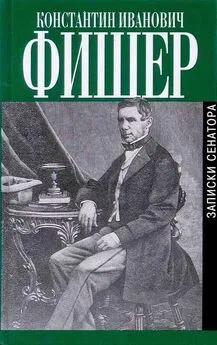
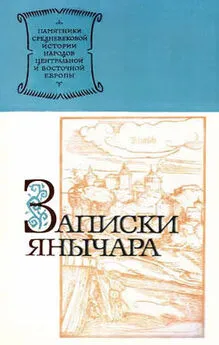
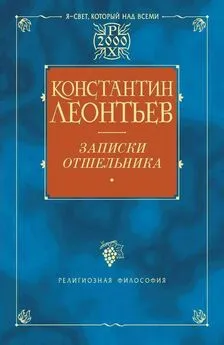

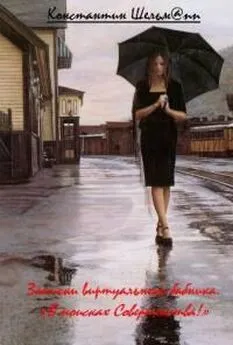

![Константин Ливанов - Записки доктора (1926 – 1929) [litres]](/books/1142741/konstantin-livanov-zapiski-doktora-1926-1929.webp)