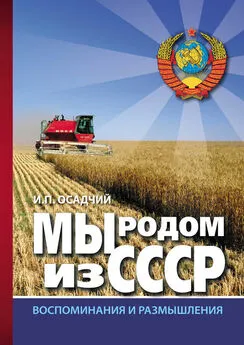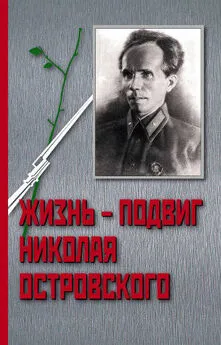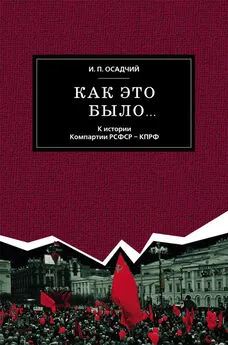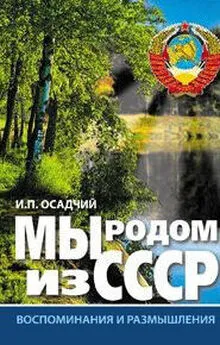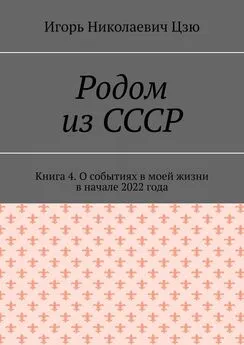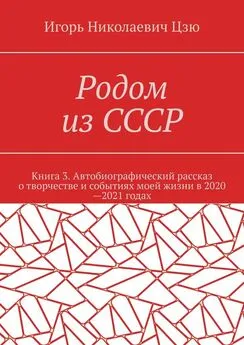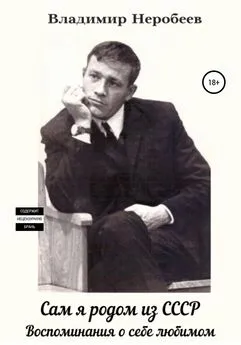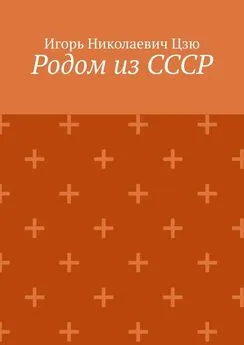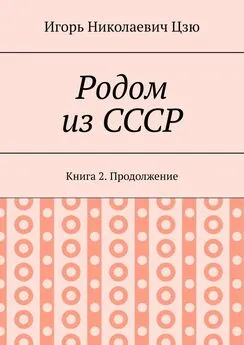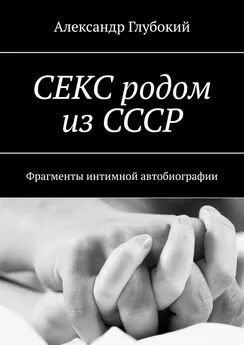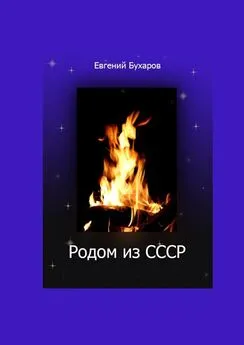Иван Осадчий - Мы родом из СССР. Книга 2. В радостях и тревогах…
- Название:Мы родом из СССР. Книга 2. В радостях и тревогах…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИТРК»c7b294ac-0e7c-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88010-020-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Осадчий - Мы родом из СССР. Книга 2. В радостях и тревогах… краткое содержание
Автор книги – известный ученый, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник культуры РСФСР, советник юстиции 1-го класса. Комсомолец с 1943 года. Коммунист с 1947 года.
Солдат последнего военного призыва. Многие годы отдал работе в комсомоле на Украине и Дону, в Приморье и на Кубани; во время военной службы в Советской Армии. Впоследствии – редактор городской газеты, секретарь горкома КПСС. Почти четверть века на преподавательской работе в Кубанском Государственном Университете: доцентом, профессором, заведующим кафедрой. На протяжении четырех десятилетий входил в состав правления Краснодарской краевой организации Общества «Знание», возглавлял научно-методический совет по общественно-политической тематике, вел активную лекционную пропаганду.
Мы родом из СССР. Книга 2. В радостях и тревогах… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1994 году А. И. Козлову присвоено почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“.
А. И. Козлов воспитал целую плеяду известных историков Дона и Северного Кавказа. Под его руководством защитили докторские и кандидатские диссертации свыше сорока человек. Его связывало тесное сотрудничество с московскими и северокавказскими учеными, такими как Ю. А. Поляков, В. Д. Поликарпов, М. И. Гиоев, Ж. Ж. Гакаев, К. Т. Лайпанов, Л. А. Этенко и другие.
Научно-исследовательская деятельность А. И. Козлова неотделима от его учебно-организаторской работы. В течение десяти лет он был деканом исторического факультета РГУ, многие годы успешно руководил кафедрой новейшей истории России.
Александр Иванович умел ценить дружбу. У него было много верных и хороших друзей, которым его будет очень недоставать.
Н. А. Трапш,
декан исторического факультета Южного Федерального Университета (ЮФУ)
Я. А. Перехов,
профессор кафедры политической истории ЮФУ »
…Осиротели не только его супруга Валентина Сергеевна, дочь Лариса и сын Андрей, внучка Лена и внук Дмитрий. Осиротела историческая наука. Говорят: «Незаменимых людей нет». Спорный вопрос. Кто заменит нам ушедшего из жизни Александра Ивановича? Поэтому скорбим и помним, и всегда будем помнить и хранить в душе своей имя и образ подлинного ученого и верного друга Александра Ивановича Козлова.
…Ситуация, в которой я оказался в научной области, – чрезвычайная. В своем стремлении объективно исследовать особенности политической тактики коммунистов в осуществлении социалистической революции и в гражданской войне на Северном Кавказе я не нашел должного понимания и необходимой поддержки ни в Краснодарском крайкоме КПСС, ни в Отделе науки ЦК КПСС. Да и ИМЛ при ЦК КПСС оказался в этой обстановке беспомощным оградить меня от многолетней травли, надуманных обвинений в протаскивании «эсеро-меньшевизма» в историко-партийную науку. Два-три безвестных историка партии и небольшая, но целеустремленная группа участников революции и гражданской войны четверть века блокировали появление позиций и подходов в освещении и оценке ряда событий и фактов революционной истории на Кубани и в Черноморье, не совпадающих с их взглядами. Они сумели «пленить» своими утверждениями и секретаря Краснодарского крайкома КПСС по идеологии, и некоторых влиятельных работников ЦК КПСС, и отдельных научных сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Была ли у меня возможность избежать такой жестокой участи и добиться научных результатов без тех жертв, которые мне пришлось принести на «алтарь науки», в борьбе за истину, за историческую правду и в значительно меньший срок? Была. И не одна…
Первая – отказаться от той научной позиции, на которой я стоял, и принять «точку зрения» своих непримиримых «оппонентов». Но это было совершенно неприемлемо для меня как ученого-историка. Ни при каких условиях я не мог встать на путь беспринципности, угодничества кому бы то ни было, отказаться от борьбы за истину, за объективное освещение истории.
Вторая – в самом начале пути в науку, еще на этапе курсовой и дипломной работ и первых публикаций. Узнав и осознав, что меня ждут трудные и сложные испытания, можно было сменить тему (проблему) научного исследования.
В те годы в особом почете были «научные» работы о деятельности коммунистических организаций регионов (или в целом КПСС) в условиях развитого социализма в той или иной сфере жизнедеятельности советского общества. Таким «научным исследованиям» была открыта «зеленая улица» и для защиты диссертаций, и для научных публикаций, издания монографий.
Можно было использовать и хрущевский период в деятельности КПСС. Ни в коем случае не покушаясь на «творческое» развитие теории коммунистического строительства в документах XX, XXI и XXII съездов КПСС и в новой Программе КПСС – программе построения коммунизма в СССР. Но при моем критическом отношении к этим «выдающимся научно-теоретическим выводам» моя научная работа по исследованию этих проблем, мягко говоря, очень скоро стала бы никому не нужной макулатурой и осела бы мертвым капиталом в архивных фондах.
Таким образом, я был обречен заниматься исследованиями той проблемы, той темы, тех вопросов, которые меня глубоко интересовали, занимали, которые мне хотелось изучить и осветить, отстоять результаты своих исследований, внести свой вклад в их разработку, в историческую и историко-партийную науку. Потому я и решил идти до конца, ни при каких условиях и испытаниях не отказываясь и не отступая в борьбе за историческую правду. Это был мой удел, и я рад и счастлив, что прошел его до конца, прошел достойно и мужественно…
Моя научная деятельность, многие годы осложнявшая и омрачавшая мою жизнь и подрывавшая здоровье, совершенно не типичная для советского времени. Что называется, «исключение из правил», возможно, единственная в своем роде в историко-партийной науке.
Она сложилась в силу стечения обстоятельств: реального наличия различных подходов к восприятию и освещению фактов и событий, имевших место в истории борьбы за Советскую власть в Черноморье, двумя группами её участников, обнаружившихся вскоре после гражданской войны. Эти позиции и различные подходы поделили историков-исследователей революции и гражданской войны в этом районе на две противостоящие друг другу группы.
Осложнялась ситуация чрезмерным, субъективным и необоснованным вмешательством отдельных партийных работников в спор двух группировок – ветеранов революции в Черноморье и её исследователей. В Краснодарском крае такую позицию занимал тогдашний секретарь Краснодарского крайкома КПСС по идеологии И. П. Кикило; в ЦК КПСС – помощник Генерального секретаря Л. И. Брежнева Е. М. Самотейкин. Их поддерживали также отдельные сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, по моему мнению, сугубо конъюнктивно, желая угодить партийной власти.
В одном случае, секретарь крайкома КПСС И. П. Кикило, используя своё служебное положение, поддержал моих оппонентов, при этом всячески третируя и дискредитируя меня и мою научную позицию.
В другом – помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Е. Самотейкин пошел на поводу своего отца, одного из ярых моих «оппонентов».
Именно эти, чисто субъективные позиции отдельных лиц, и обусловили сложность моего положения в научно-исследовательской деятельности.
О том, что это так, более чем убедительно говорят итоги этой многолетней «околонаучной» свары.
Позиции моих «оппонентов», опиравшихся на помощь и поддержку партийной власти, были отвергнуты абсолютным большинством ученых, вовлеченных в этот «спор»; Специализированными Советами Ростовского и Ленинградского государственных университетов, где проходила защита моих кандидатской и докторской диссертаций; многими ответственными работниками ИМЛ при ЦК КПСС; принципиальной и объективной позицией Высшей Аттестационной Комиссии ВАКа СССР.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: