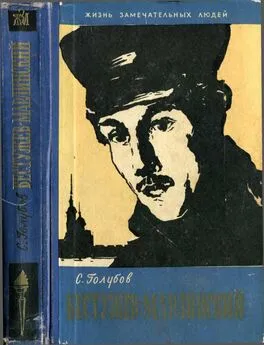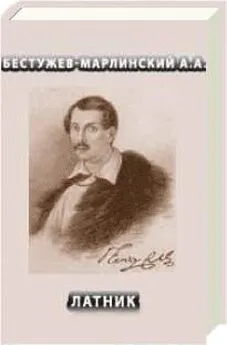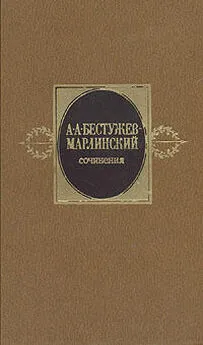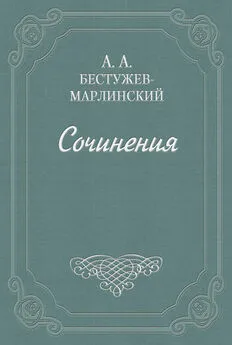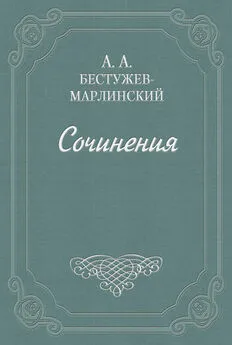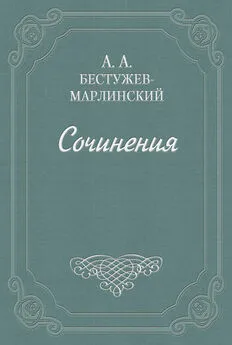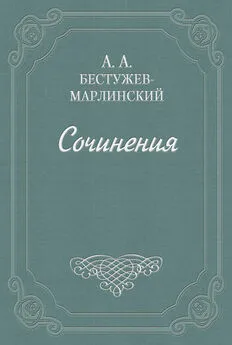Сергей Голубов - Бестужев-Марлинский
- Название:Бестужев-Марлинский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1960
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голубов - Бестужев-Марлинский краткое содержание
Книга, которая пытается на место тусклой легенды поставить образ живого человека со сложной историей внутреннего развития, деятельности и общественных отношений, должна оперировать множеством фактов. Этого рода данные изложены, насколько позволил размер книги, полно и, во всяком случае, точно. В частности, приводимые в книге диалоги представляют собой иногда сокращенное, очень редко дополненное воспроизведение подлинных разговоров, зафиксированных в делах процесса декабристов, мемуарах современников, письмах и других материалах подобного рода.
Бестужев-Марлинский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Это произведение оставило за собой все, что Пушкин писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнией очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого тела в борьбе с дикой природой. И все это — выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры?»
И другому рукописному произведению — грибоедовской комедии — Бестужев посвятил отзыв, горячий и пророческий, лучший из всех современных отзывов:
«Горе от ума» — феномен, какого не видели мы от времен Недоросля. Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невидимая доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах — все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее (комедию), не смеявшись, не тронувшись до слез… Будущее оценит достаточно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных».
После всех этих справедливых приговоров Бестужев, наскоро осудив нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и мало читать, упомянув вскользь о поэтах, которые не умрут потому только, что живы, переходит к обзору журналов и обрушивается на «Московский телеграф» Полевого:
«В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», издаваемый г. Полевым. Он заключает в себе все, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего телеграфа, а смелым владеет бог — его девиз».
Бестужев совершил большое дело. Он сказал во «Взгляде» ясно и прямо то, о чем смутно догадывались лучшие головы современной ему литературной среды: литература идет из жизни; ее упадок — непосредственный результат уродства общественных условий, недостатка общественного воспитания, отсутствия гражданских интересов.
По обыкновению вокруг «Взгляда» поднялась шумиха. Свежие и резкие мысли Бестужева стали костью не в одном горле. Особенно болезненно подействовала его статья на старика А. Е. Измайлова:
«Взгляд» Завирашки поднял всю мою желчь, — писал он И. И. Дмитриеву, — хотя истинно я очень хладнокровен. Какой варварский язык! Какой решительный дерзкий тон! Ах!»
Бестужев и пораздумать не успел, как очутился со своей оскорбительной для «Телеграфа» ремаркой во «Взгляде» впереди целой стаи гончих дворянской журналистики, травившей Полевого. Это был рецидив дворянской болезни в Бестужеве, взрыв темного, глубоко затаившегося чувства. «Телеграф» был лучше многих тогдашних журналов и нисколько не заслуживал острых насмешек бестужевского «Взгляда».
Но это был только рецидив, так как в основе суждений Бестужева все же лежало здоровое, почти по-рылеевски демократическое чувство. И натура его была такова, что, чем больше притуплялось и охладевало в нем это чувство, тем острей и горячей оно заявляло о себе в его разговорах и литературных работах. Такая двойственность заводила иной раз Бестужева в тупики грубых ошибок. Все еще находясь под влиянием рылеевских настроений, а собственные не доводя до конца, он изложил причину своего отрицательного отношения к «Онегину» (Рылеев и он одинаково смотрели на этот роман) в письме к Пушкину следующим образом:
«Поговорим об Онегине»… «Я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много искусства и труда»… «Для чего же тебе из пушки стрелять в бабочку?»… «Я вижу франта, который душой и телом предан моде; вижу человека, которых тысячу встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов»… «Я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце: а мало ли таких предметов, и они ждут тебя!»
Сравнивая «Онегина» с «Дон-Жуаном» и вспомнив о Байроне, Бестужев пишет:
«И как зла, и как свежа его сатира!» [36] Мартовская переписка 1825 г. (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, переписка 1815–1827, стр. 149).
Бестужев хотел бы видеть в поэзии Пушкина если не голую политическую сатиру, то по крайней мере ту исключительность политического направления, которая придавала в глазах публики такую силу поэмам и думам Рылеева. Всеобъемлющая впечатлительность Пушкина казалась ему растратой гения, и рылеевскую односторонность, столь понятную каждому неравнодушному к политическим вопросам читателю того времени, он предпочитал пушкинской широте поэтических впечатлений.
Пушкин отвечал:
«Где у меня сатира? о ней и помину нет в Евг[ении] Он[егине]. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатире… Дождись других песен» [37] Письмо от 24.3. 1825 (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, переписка 1815–1827, стр. 155).
.
Корреспонденты говорили на разных языках, и Бестужев выступал в переписке с обычными своими страстностью и преувеличениями. Однако Пушкин полагал, что именно Бестужев «достоин создать критику». И в самом деле, роль критика была Бестужеву совершенно по плечу. В эпоху ожесточенных битв классицизма и романтизма он был решительно на стороне последнего. Классицизм отступал по всему фронту — от Байрона с Вальтером Скоттом до Пушкина с Бестужевым. Публика торжествовала победу романтизма как побиение дряхлых корифеев литературного прошлого — Сумароковых, Шишковых, Херасковых, как подрыв рабской морали старой литературы, старого правительства, старых людей вообще. Неопределенность и задумчивость новой романтической школы Бестужев почитал языком какого-то грандиозного перелома, назревающего в общественном сознании. Он не сомневался, что поэзия выплывет из засасывающих ее умозрений, и уверенно писал:
«Нельзя отрицать, что у нас теперь уже проявилась наклонность к действительному».
Эта наклонность, по его мнению, должна была вести литературу к самобытности, следуя внушению народного духа. Нельзя допускать, чтобы народ оставался вне литературы, и поэтому литературе нужно народное содержание. Здесь — великая победа искусства, освященная глубокой любовью к родине.
С таких-то именно позиций Бестужев обстреливал противников в критических своих работах. Он никогда не сумел связать эти здоровые и отважные мысли в целостную концепцию литературного символа веры.
Он разбрасывал их щедро и беззаботно по страницам статей и писем, но зато в «Полярной звезде» собрал множество блестящих доказательств их правоты. Все содержание трех альманахов ее доказывало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: