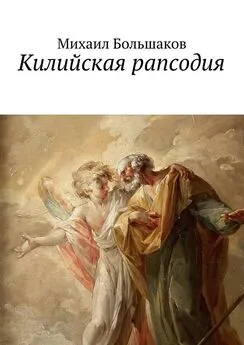Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра
- Название:Философская эволюция Ж.-П. Сартра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1976
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра краткое содержание
В монографии рассматриваются основные этапы творческого пути Ж.-П. Сартра, философа, писателя, публициста, литературного критика. В настоящее время Сартр стал одним из главных идеологов «новых левых» — экстремистского течения, противопоставляющего себя мировому коммунистическому движению и смыкающегося с маоизмом. «Неомарксизм» Сартра, служащий одним из главных теоретических источников современного философского ревизионизма, делает особенно актуальной критику его воззрений, проникнутых духом анархизма и нигилистического отрицания классического культурного наследия.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами идеологической борьбы.
Философская эволюция Ж.-П. Сартра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из этих рассуждений Сартр делает вывод о том, что связь между писателем и читателем есть не что иное, как «пакт благородства». Вот его знаменитое, часто цитируемое в разных работах высказывание на этот счет: «Я не отрицаю, что автор может быть захвачен страстью или что его писательский замысел может возникнуть под влиянием страсти. Но его решение писать подразумевает, что он находится на определенной дистанции от своей страсти, что он преобразовал свои эмоции в свободные эмоции, т. е. что он принял позицию благородства. Таким образом, чтение есть пакт благородства между писателем и читателем… Возвещая себя, моя свобода возвещает свободу другого» [53] Ibid., p 104—105.
.
В этом пункте постепенно обнаруживается этический рационализм писателя, который мы уже отмечали при анализе его концепции человека. Опять-таки, как ни парадоксально, но некоторые утверждения Сартра перекликаются с эстетикой классицизма: свобода как победа над страстями и благородство как излучение человеческой свободы и первостепенный атрибут искусства — все это очень похоже на эстетический кодекс XVII века. Как трудно это сочетать с писательской практикой Сартра — тонкого аналитика половых извращений и проникновенного живописца разнообразнейших физиологических отправлений человеческого организма! А натуралистические описания половой любви? К свободе ли читателя они апеллируют, или к чему-то иному?
Не сомневаемся, что на эти риторические вопросы Сартр ответил бы: «Вот именно! И в грязи мерцает свет свободы, и гнусность физического бытия только лучше оттеняет человеческое в человеке». Но тогда, надо сказать, очень уж извилистым путем ведет он своего читателя к истине. Есть опасение, и, между прочим, оправдавшееся на практике, что часть читателей не пройдет всего пути целиком, а застрянет на каком-нибудь его отрезке, где изображено, например, упоение садизмом, так свойственное человеческой натуре, если верить Сартру, пока не просветлит ее «очищающая рефлексия». Мы уже говорили о том, что вслед за С. де Бовуар некоторые «теоретические представители» современной левой молодежи поднимают на щит маркиза де Сада. Не несет ли за это какой-то ответственности и сам мэтр?
Если же исходить из благородства как определяющего эстетического критерия, то рамки художественной литературы будут неправомерно сужены в ущерб реализму изображения. Тогда в романах, повестях и рассказах не найдется места не только для гомосексуалистов, без которых Сартру как-то трудно обойтись в своем творчестве, но и вообще для полнокровного отображения жизни. Из литературы уйдет богатство красок, разнообразие жизненных ситуаций и характеров — одним словом, все то, что делало Шекспира «варваром» в глазах строгих ревнителей классицизма.
Кроме того, в этих формулировках Сартра явственно проступает морализирующая тенденция, которая, как давно уже известно, действует как свирепый мороз на нежные цветы изящной словесности. Сартр прямо говорит о долженствовании и призыве (а не об отображении реальности сквозь призму человеческих ценностей) как основном содержании художественной литературы: «Хотя литература — это одно, а мораль — другое (вот именно! — М. K.), в сердце эстетического императива мы различаем моральный императив (вторая часть фразы отрицает первую. —М. К.)… Произведение искусства, с какой бы стороны мы к нему ни подошли, есть акт веры в свободу людей… Поэтому произведение искусства можно определить как воображаемую картину мира в той мере, в какой этот мир требует человеческой свободы» [54] Ibid., p. 111.
.
Разумеется, в живом теле искусства этическое и эстетическое неразрывно слиты, что особенно подчеркивается существованием такой категории, как эстетический идеал, но важно учитывать по крайней мере два обстоятельства. Первое: в орбиту искусства входит весь мир нравственных отношений со всеми полярными явлениями, ему присущими, а не одна только свобода. Второе: даже в том случае, когда нравственный опыт человека и человечества становится преимущественным предметом изображения (как, например, в творчестве Достоевского), нет оснований призывать к безусловному преобладанию этических требований над эстетическими критериями, ибо это привело бы к разрушению художественной цельности произведения и к превращению эстетической ценности в отвлеченную идею, а живых людей — в «экземпляры», охватываемые родо-видовыми отношениями понятий.
Последний недостаток характерен для творческой практики самого Сартра и особенно заметен в его трилогии. Главные его персонажи — это в гораздо большей степени различные типы «экзистенциального проекта», чем живые люди. Второстепенные же персонажи вообще выглядят нарисованными на плоскости вне всякой оптической перспективы, имея чисто служебное значение и оттеняя различные стороны главных героев. Ни одно произведение искусства не обходится без несущей конструкции, но каждый ее элемент находится не только в функциональном отношении к целому, но отражает в себе это целое полностью и сообразно собственной своей природе. В этом специфика органической целостности, составляющей «чудо» подлинного искусства и обуславливающей невозможность серийного производства шедевров по формам, точно снятым хотя бы даже с самых гениальных образцов. «Отливка», как бы тщательно ни была сделана, все же всегда оказывается неимоверно грубой, чтобы передать это удивительное «свечение» целого в каждой составляющей его части.
Сартровский «конструктивизм» (мы здесь, разумеется, не имеем в виду художественное направление в архитектуре) получает в его теории литературы видимость теоретического оправдания. Этой же цели служит и его концепция фрагментарного бессубъектного сознания, о которой мы уже говорили. Это показывает, что доктрина, изложенная в эссе «Что такое литература?», имеет опять-таки двойную «дедуктивно-индуктивную» (берем это определение в кавычки, потому что составляющие его слова употребляются не в точном — формально-логическом — смысле) основу. С одной стороны, она опирается на определенные общефилософские соображения (экзистенциалистскую концепцию человека), а с другой стороны, вырастает из художественной практики писателя, из его художественного стиля.
Ясно, что у писателя с философской закваской, как тот, о котором у нас идет речь, стиль в значительной мере определяется философией. Но поставить на этом точку, как это часто делают в философской литературе о «сартризме», было бы, по нашему мнению, неправильно, ибо сама-то философия в определенной степени оказывается зависимой от интуитивных предпосылок, лежащих в основе художнического «видения» мира. Иначе говоря, персонажи Сартра часто выглядят как иллюстрация к его идеям, но сама-то идея очень часто возникает из иллюстраций.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: