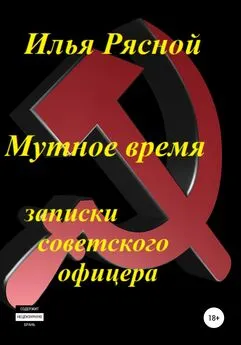Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
- Название:Записки советского интеллектуала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства
- Год:2005
- ISBN:5-86793-054-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала краткое содержание
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Записки советского интеллектуала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но с книгами неотступно возились четыре старенькие библиотекарши, отдавшие этой библиотеке всю свою жизнь и теперь числившиеся в команде. Они очищали книги от снега и льда, отогревали — должно быть, собственным дыханием — и по одной, по одной ставили на места. Это в лютую зимнюю стужу, в доме, распахнутом всем ветрам. А команда сокращалась — и вот стал вопрос о судьбе Павчинской, Окуневой, Изаксон и Ингерман. Легко сказать — сократить! А ведь они останутся без карточек (или, что почти то же самое, с иждивенческими карточками).
— Ничего нам не надо, только позвольте здесь работать. Не можем мы бросить так книги, — говорили они.
Я был только начальником объекта ПВО. Но Орлов заговорил со мной о судьбе библиотеки. Тогда уже было ясно, что немцам Москвы не взять. У всех, кто остался, было настойчивое желание наладить снова здесь, в осажденном еще городе, университетские занятия.
— Думаю, Борис Павлович, что книгами мы занятия обеспечим даже сейчас. Нужно лишь вернуть с вокзала наши тюки. А остальное тоже со временем вступит в строй, только устройте, чтобы старые сотрудники остались в команде, все-таки для них это немного хлеба, а дело их необходимое.
— О сокращении речи нет. Наоборот, узнайте, кого еще из старых можно разыскать. А о здании и прочем я сейчас не умудрен (это было любимое его выражение). Поедемте со мной завтра поговорить в Наркомпрос.
Первый раз я попал не в канцелярию, а в приемную самого наркома. Орлов сказал, чтобы я подождал его тут, и прошел в кабинет. Через несколько минут я впервые увидел Потемкина не на портрете, а за рабочим столом. Он даже встал, подал руку и, не садясь, объявил строгим голосом:
— Так вот. Мы назначаем вас исполняющим обязанности директора Научной библиотеки имени Горького при Московском государственном университете.
Важный, барственный, сановный вид, повелительная манера Потемкина лишили меня языка. Не помню, пробормотал ли я в ответ хоть что-нибудь прежде, чем оказался вновь в приемной, теперь уже вместе с Орловым.
— Борис Павлович, что же это? Ведь разговора не было — и не справлюсь я с библиотекой.
— Сами посудите, кого другого назначить. Тех, кто сейчас работают так самоотверженно, испугает самая мысль об ответственности. А вы показали на истфаке, что можете наладить работу. Обычно мы назначаем руководителя учреждения начальником объекта ПВО, а тут порядок обратный — начальника объекта назначим директором. А что вы молоды, так этот порок проходит с возрастом, и особенно быстро в наши суровые дни, — пошутил ректор, чуть щуря глаза за очками, улыбаясь в пушистую свою бороду.
— Но мы хотели поговорить о здании…
— И поговорили (надо было понимать: «я без вас поговорил»). Воинская команда у вас уже работает. Ее усилят. Заделают окна, крышу. Так что осваивайте дом и в самом деле давайте откроем хоть один читальный зал — штаты дадут. Составьте смету на ближайший год, собирайте людей. Людей, главное, найдите.
Людей-то, к счастью, собрать было можно. Кто помоложе, был в команде, а через них да через четырех старых библиотекарш нашлись и остальные — кто не уехал, не умер, не пропал без вести. Из тех четверых Екатерина Теофиловна Павчинская заведовала главным для библиотеки отделом — каталогом, в картотеке которого я когда-то так любил рыться. Появился вскоре Николай Владимирович Скородумов — заведующий библиографическим отделом, а за ним — ученый секретарь Чеботарев. Это были корифеи. Они, правда, не участвовали в героической разборке книг.
— Да разве мужчины вынесут такую работу, — сказала мне как-то Павчинская не без оттенка превосходства.
Вскоре мы кое-как слепили смету. Заведовать отделами хранения и обслуживания стали начальники смен. В общем, мы сорганизовались в невероятно короткий срок — так все истосковались по своей работе. Понемногу выбирались из подвала. Прежде всего устроили «теплушку» — поставили в бывшей переплетной железную печурку. Строительный батальон быстро перекрыл крышу, «зафанерил» окна, вставив и какие-то кусочки стекла, чтобы был хоть скудный дневной свет. С изящным куполом пришлось расстаться (его и теперь нет над библиотекой). Комната за комнатой отвоевывались у разрухи и осваивались нами. Было уже хорошее помещение для команды.
И все или почти все делали слабые женские руки. Моложе других были Иванова и Нечаева — отличные организаторы и агитаторы. Хрякова, Железнова, Исакова, Плоткина, Румянцева, Борина. На них падала вся тяжелая физическая работа. Меньше старались нагружать страдавших тяжелыми недугами Додзину, Филиппову. Но была ли у нас тогда работа легкая? Таскать и таскать мерзлые книги — это ведь немалое физическое напряжение. Образцова, Гаухман, Гусева, Пеликан, Симукова, Виноградова, Яковлева — все, мягко выражаясь, пожилые. И все нездоровые — кто поздоровее, ушел на военное производство, в воинские части. Додзину и Гусеву мы через год схоронили. Я называю сейчас только фамилии, потому что многих отчеств за давностью не помню. Сами они называли друг друга, строго придерживаясь какой-то неписаной субординации: младшие старших почтительно по имени-отчеству, старшие младших — любовно по имени. На одном уровне — все по именам. Ведь многие как поступили сюда молодыми, так вместе и состарились.
В один прекрасный день мы покончили с расстановкой книг. Налеты стали реже и короче. Жестокая зима подходила к концу, и у нас действовали бывший профессорский читальный зал (конечно, холодный, но так было тогда повсюду — и в неразбомбленных библиотеках) и учебные библиотеки в главном здании университета. Был утвержден и даже проводил заседания ученый совет.
В тот год в Москве оказалось множество брошенных научных библиотек, и чуть не все поступили в наше ведение. Громадная библиотека слившегося с университетом ИФЛИ [110], библиотека Юридического института [111], даже библиотека ГИТИСа. Все это были новые заботы: в библиотеках этих дела обстояли немногим лучше, чем у нас в октябре 41-го, а «штат» — по два-три старика или старухи. Что мы могли сделать? Как уберечь их книги? Бывали очень трудные случаи. Так, здание ИФЛИ в Сокольниках передали одной из военных академий, которая захотела устроить в помещении библиотеки пищеблок и потребовала, чтобы мы немедленно забрали книги. Легко сказать! Ведь нет для этого ни рабочих рук, ни, главное, транспорта. И у академии его не оказалось. Мы не выполняли ее настойчивых требований, хотя и понимали всю важность их. Помнится, я довел как-то генерала — начальника академии до того, что он пригрозил дать команду попросту выбросить книги на улицу. Но не дал, и после вмешательства высших инстанций наших ведомств найден был все же какой-то временный выход.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
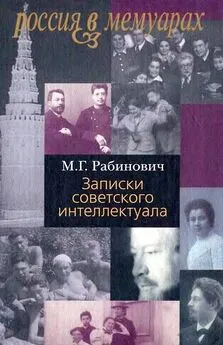




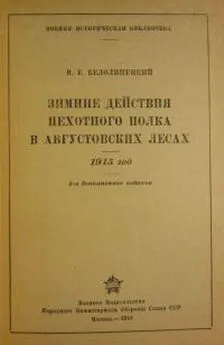
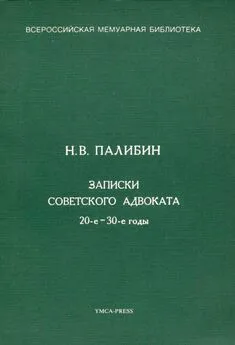
![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/1143668/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo.webp)