Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
- Название:Записки советского интеллектуала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства
- Год:2005
- ISBN:5-86793-054-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала краткое содержание
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Записки советского интеллектуала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И с первых дней мы занимались наукой. Вокруг маленькой группы Толстова создался настоящий лицей. Все, кто был хоть немного близок к нашей специальности, приходили в этот запущенный, редко убиравшийся кабинет, чтобы читать и слушать научные доклады. Одним из первых поручений мне, как ученому секретарю, было составить график заседаний — еженедельных! Заявок на доклады было так много, что сразу оказались заполненными все отведенные для этого дни до самой весны. Послушав первый же доклад Толстова и последовавшие за ним прения, я понял, что придется оставить и резервные дни для тех случаев, когда одного заседания не хватало.
Толстов тогда только что защитил свою докторскую диссертацию «Древний Хорезм» [124]. В ней были «Addenda» — дополнения, каждое из которых — по сути дела, самостоятельное исследование по древней истории. Он был в расцвете своих творческих возможностей. Нельзя сказать, что приводило меня в больший восторг — наблюдение за полетом его мыслей или форма, в которую он их облекал. До тех пор я знал, что он археолог — и его этнографическая ипостась меня восхитила. Я слушал, буквально раскрыв рот и развесив уши, старался впитать как можно больше этих увлекательных гипотез, таких красивых и убедительных. Сергей Павлович и сам был увлечен изложением своих последних выводов и делал доклады с удовольствием. Как-то он даже сказал:
— Мой день рождения. Давайте назначим мой доклад.
Говорил он легко, свободно, увлекаясь сам и увлекая слушателей. Доклады его всегда вызывали оживленные прения. И хоть нас считалось только пятеро, заседания с самого начала были многолюдными. Наша группа стала как бы оазисом среди песков. К нам охотно приходили истосковавшиеся по научным дискуссиям сотрудники других учреждений. Особенно запомнился мне Николай Феофанович Яковлев, лингвист, видимо, очень широко образованный и имевший склонность к психологии (как, кажется, многие лингвисты). Его доклады о Леви-Брюле (с которым докладчик спорил не так яростно, как было принято у нас в те времена), об антропогенных названиях частей предметов (типа «спинка ножа», «ножка стула») казались мне открытиями. Как-то забывалась нарочито неопрятная внешность докладчика, его шамкающий гнилозубый рот, низкий, хрипловатый голос. Думалось лишь о психологических неожиданностях языка (Фрейд тогда был под строгим запретом).
Другой наш частый докладчик — Валерий Николаевич Чернецов, коренастый лысоватый блондин неопределенного возраста — был мне знаком и раньше, но как археолог-сибиревед. А оказалось, что он еще и этнограф. Да какой! Проживший годы в Зауралье среди обских угров — хантов и манси. Он рассказывал о медвежьих праздниках (показывая свои собственные прекрасные зарисовки), о фратриальном делении — и всегда поражал огромным запасом сведений, не вычитанных из книг, а наблюденных непосредственно в поле. О Чернецове мой знакомый по университетской команде ПВО, зоолог Вяжлинский, рассказывал почти невероятное: будто однажды, еще в мирное время, он (Вяжлинский) вслед за какими-то своими зверями спустился на ту сторону Уральских гор и от местных жителей узнал, что среди них не так давно поселился русский человек, добрый и мудрый — лечит, помогает советами, учит жить. Не зная, как поступить с новоявленными избами-читальнями, они спросили: не сжечь ли их, а заодно — и избачей? Он сказал, что пока не надо. Пусть живут.
Это был Чернецов. Человек, которого я знал, был не похож на этот образ — мрачноват, как будто бы нелюдим, но франтоват. Собирал фарфор и пользовался феноменальным успехом у женщин. Две его жены были в эвакуации, и в те дни он женился на моей соученице Ванде Мошинской — этакой рафинированной палкообразной девице. Это не считая множества романов, которых не скрывал, что не мешало ему выступать защитником патриархальной семьи, если дело шло о свободе для женщин. Из уст такого человека я никак не ожидал услышать тех докладов. Так на всю жизнь осталось двойственное отношение к Чернецову: очень любил слушать его, но избегал бытового общения.
Марк Осипович рассказывал нам о различных аспектах проблемы матриархата. Почему-то особенно запомнились его «Легенды об амазонках». Как докладчик он был во всем противоположен Толстову — собранный, всегда чисто выбритый, спокойно-ироничный, он, казалось, сидел не на заседании, а вел светскую беседу где-нибудь в гостиной, только вот чая не было. Поражал меткостью суждений, отточенностью аргументов, громадной эрудицией.
А когда начинались споры и глуховатый говорок Богданова мешался с несколько скрипучей, грассирующей речью Косвена, порывистой, как бы кудахтающей манерой Никольского, иногда яростными репликами Толстова — становилось трудно вести протокол, и я, бросив за безнадежностью это занятие, весь превращался в слух. Эти заседания были для меня вторым университетом.
Выкраивать время для таких научных споров было нелегко: шла зима 1943 года. Только что был освобожден Сталинград. Все жили в постоянном напряжении, впроголодь (несмотря на дополнительное питание), в холоде, ходили в обносках. Быт отнимал (особенно у пожилых людей, у которых оставалось совсем немного сил, как у Богданова) массу времени и энергии, и нужно было очень хотеть, чтобы проводить в научных спорах, по крайней мере, один день в неделю.
Точнее — полдня. Мы заседали по утрам не только потому, что с наступлением темноты даже передвигаться было трудно. У Толстова рабочий день резко делился на две части. С утра — дела института, Отделения академии и пр. В 2 часа он все это кончал, чего бы ни стоило. Обедал, ехал домой спать. Вставал часов в 7 вечера — и всю ночь, часов до 4 утра, читал и писал — словом, работал над своей темой. А там опять несколько часов сна — и снова директорство.
— Что вы меня уговариваете? Я сплю не меньше, чем вы, — часов восемь или около того. Но так я из одного дня делаю два.
Дорого ему это обошлось.
Научные доклады были тогда как отдых. А повседневный труд — выполнение срочных заданий. Организация этнографической службы, как любил говорить Толстов, которая приобрела важное значение. Наступивший перелом в военной обстановке позволил думать и о будущем мире. И вот тут-то «оказался чрезвычайно важным этнический состав населения Земли, или, выражаясь не столь научно, какие народы где живут. Прежде всего — в Европе. Но и в Азии, и в Африке. Этим интересовались теперь не только ученые, но и политики, да и военные, которым тоже нужно было знать, в какой обстановке придется действовать, перейдя наши границы. Летом 1943 года от нас запросили множество срочных справок такого характера. Работа над ними требовала прежде всего людей — квалифицированных специалистов — этнографов и картографов, а их в Москве почти не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
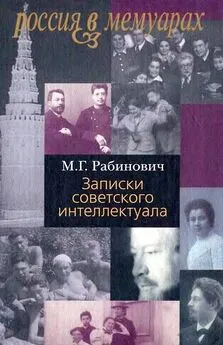

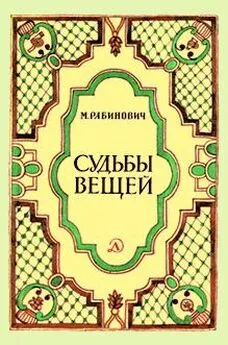
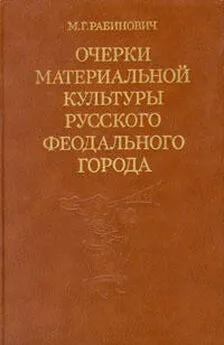



![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/1143668/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo.webp)

