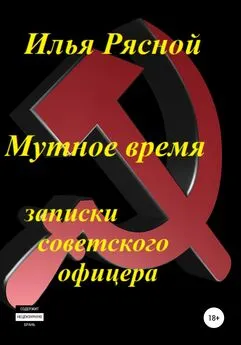Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
- Название:Записки советского интеллектуала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства
- Год:2005
- ISBN:5-86793-054-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала краткое содержание
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Записки советского интеллектуала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Понимаешь, я теперь поворачиваюсь в постели очень осторожно: уже не раз при этом ломались ребра, — сказал он мне как-то.
Болезнь Блеэра — так, кажется, это все вместе называлось — неотвратимо делала свое дело. Не раз Осю клали в Боткинскую больницу, куда вообще трудно попасть. Но врачи заинтересовались: как это Ося болен такой болезнью уже лет двадцать — и все еще жив (вот как стоял вопрос!); наблюдали его (сказать «лечили», кажется, нельзя — просто старались облегчить страдания).
В краткие периоды относительной стабилизации (не скажу «улучшения») Ося написал воспоминания о годах тюрьмы, лагеря, ссылки. Читая их, я не мог прежде всего не заметить, что у него настоящий литературный талант. Некоторые детали так ясно написаны, так запали мне в душу, что помню их сейчас. Например, такие.
Еще в камере подследственных от негодной тюремной пищи у него сделался злокачественный понос. Ося ослабел и надолго терял сознание. «Вот как-то лежу в полузабытьи на нарах и слышу, что старший камеры говорит какой-то очередной комиссии:
— А вот этот заключенный у нас умирает.
И, собрав все силы, я сказал довольно внятно: «Нет, я не умираю!» Может быть, неточны какие-то слова, но суть я передаю, уверен, точно.
А в лагере, когда узнали, что Ося — горный техник, поручили ему какой-то хронометраж (ведь и там были свои нормативы, свои исследования!). И очень удивились, когда после работы он принес секундомер обратно:
— Возьмите, пожалуйста, у меня его все равно украдут или отнимут.
Их ведь держали вместе с уголовниками.
А как-то он в очередной раз «доходил» настолько, что его даже оставили в бараке, когда всех погнали на работу. И можно было обойти вокруг барака. Ося нашел куст, покрытый какими-то неизвестными ему ягодами. Но безошибочный инстинкт подсказал, что их надо есть. Ел два или три дня и снова встал на ноги.
— На шестьдесят третьем году жизни… — сказал мне Ося в кабине лифта, когда мы возвращались после краткой прогулки.
И вот мы стоим в зале крематория у Осиного гроба. Пришло много еще школьных друзей.
— Скажи… скажи… — подталкивают меня.
— Мы прощаемся с тобой, Ося. Ты прожил трудную жизнь, прожил ее мужественно. Пусть будет тебе пухом земля!
И больше не мог говорить — так судорога схватила горло.
…Когда стали расходиться, Осин университетский друг и «подельник», Юра Цедербаум, сказал мне несколько слов, наверное, чтобы утешить. И до сих пор я ему благодарен.
Узкое, 5–17 сентября 1986 г.
Раскопки в Москве
И тут в моей жизни произошел поворот.
К лучшему? К худшему? Как сказать… Мне-то казалось, что я возвращаюсь на старый путь — к археологии. Более того — к теме, начатой еще на студенческой скамье с Петром Николаевичем Миллером, которую просто обязан закончить. Обязан памяти покойного Петра Николаевича довести до конца начатое, и кажется, сделать надо не так много. Работы на несколько лет. А потом опять смогу заняться любимым Новгородом, вот только опубликую материалы наблюдений и проведу раскопки. Первые раскопки в Москве! Не думал я тогда, что бросаю камень в воду и пойдут круги — не дай бог! А «побочные последствия», как заноза, засядут в сердце и будут колоть до старости. Не думал и о том, что определяю весь свой научный, а может быть, и вообще жизненный путь.
А началось все просто. С невинного вопроса:
— Вы не помните точной даты первого летописного упоминания Москвы? Месяц хотя бы, если уж не число? — спросил меня на одном из заседаний Отделения тогдашний ученый секретарь ИИМКа, Павел Николаевич Шульц.
— Четвертое апреля 1147 года! — эта сакраментальная дата прочно сидела в памяти еще с миллеровских времен.
А дело было в том, что приближалось восьмисотлетие с того времени и его вознамерились отметить чрезвычайно пышно — как один из первых послевоенных всенародных праздников. Забегая вперед, скажу, что юбилей столицы всего прогрессивного человечества (как тогда говорили и писали) превратился в нечто самодовлеющее; в сиянии его лучей как-то даже не видно стало самого юбиляра — древней Москвы. Одно празднество сменяло другое, и даже начало их было перенесено на 8 сентября, чтобы лучше подготовиться. Почти на полгода позже действительной даты, до которой, кажется, никому не было дела.
Но в конце 1945 года еще мало кто чувствовал эту аляповатую самодовлеющую пышность, кроме, может быть, Самого (а он как раз любил такое), его ближайшего окружения и вообще тех, кому надлежало все устраивать и кто хорошо знал вкус великого вождя.
В такой обстановке директор Института истории материальной культуры Академии наук, Александр Дмитриевич Удальцов, чувствовал себя несколько неуютно: Москва все еще не была исследована археологически. В этом первом городе мира еще ни разу не было настоящих раскопок, тогда как в десятках других больших и малых городов — начиная с Киева и кончая Звенигородом — еще до войны, а то даже и во время нее Институт раскопки провел. В общем-то, ничего особенного тут не было, но если учесть лакейскую натуру Удальцова, положение его могло стать весьма щекотливым. Выход, казалось бы, прост: организовать раскопки в Москве. Но кто возьмется за них? Кто бросит свой, издавна облюбованный объект и возьмет этот новый — труднейший, ответственнейший, находящийся у всех на глазах? Ведь раскопки в Москве не только не обещали блестящих результатов, но и таили в себе массу трудностей.
Прежде всего — научных: наблюдения показали, что культурный слой города чрезвычайно перерыт и древнейшие наслоения нарушены, а может быть, и вовсе уничтожены более поздними земляными работами. Что бы там ни было, «читать эту книгу» наверняка будет непросто. Затем — организационных: в таком оживленном городе трудно найти место, где можно было бы копать, не нарушив движения, коммуникаций и пр. Да и финансовых: денег предусмотрено не было и взять вроде бы негде, а надо много. Наконец, по тогдашним представлениям, политических (а не полицейских?) — ведь Кремль был резиденцией Сталина. Но главное — трудностей морально-персонального плана: кто конкретно будет работать? Раскопки в Москве начисто лишены поэзии археологической экспедиции. Ни тебе древних башен (Кремль исключается), ни уединенно стоящего над маленькой речкой городища, ни езды на верблюдах, ни житья в палатке, ни вечерних бесед у костра, ни ночной рыбной ловли. Ни, наконец, полевого довольствия, а это тоже немаловажно. Выезжая даже в ближнее Подмосковье (не говоря уже о более удаленных местах), археолог получает дополнительную оплату. В Москве работать труднее, а полевых платить не будут, поскольку работник-то не едет никуда.
Когда-то Москвой занимался Арциховский, возглавлявший наблюдения при строительстве метро. Но он прочно осел на раскопках Новгорода. Работал здесь и Рыбаков, но сейчас он был, кажется, совсем вне института и (о, ужас!) думал возглавить раскопки в Москве, но от Исторического музея. Не остаться бы вовсе на бобах!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
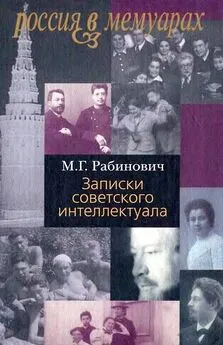




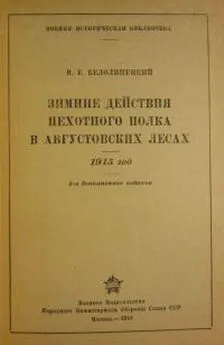
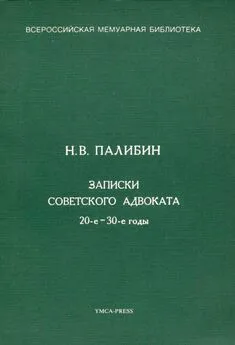
![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/1143668/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo.webp)