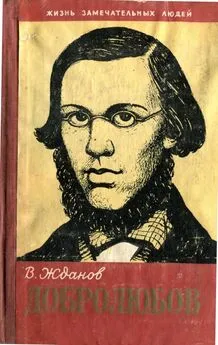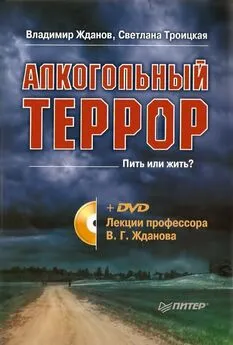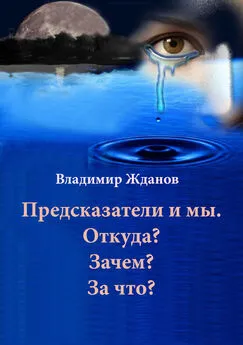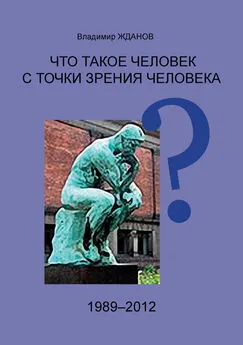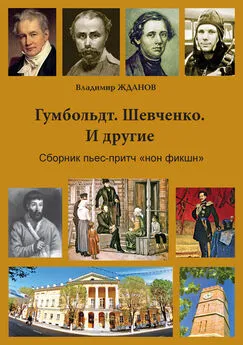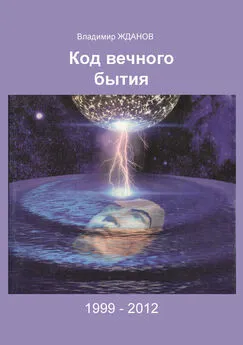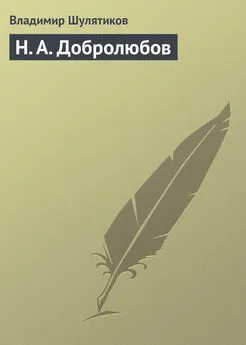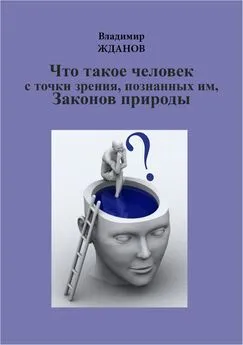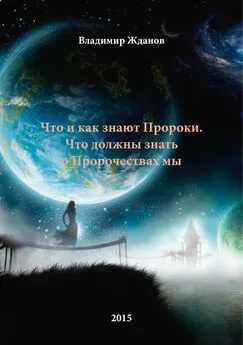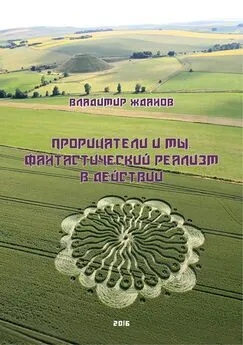Владимир Жданов - Добролюбов
- Название:Добролюбов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Жданов - Добролюбов краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга рассказывает о жизни и кипучей деятельности замечательного русского революционера-демократа, выдающегося литературного критика и философа-материалиста, друга и соратника Н. Г. Чернышевского.
В книге показан жизненный путь Добролюбова — детство, проведенное в Нижнем Новгороде, годы учения в Петербургском педагогическом институте, когда складывались революционные убеждения будущего критика, время работы в «Современнике» (1856–1861), — наиболее яркий период его деятельности.
Автор книги В. В. Жданов (род. в 1911 г.) — советский литературовед, написавший ряд работ о русской классической литературе (о Гоголе, Лермонтове, поэтах-петрашевцах и др.)
Добролюбов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Особенным уважением студентов пользовался профессор Измаил Иванович Срезневский, известный ученый-славист, академик, который вел курс славянской филологии. Это был человек, горячо преданный науке, он читал с увлечением, интересно рассказывал о своей поездке по славянским странам. В свое время он был также учителем Чернышевского, который слушал его лекции в университете и надолго сохранил с ним дружеские отношения. Срезневский первый заметил Добролюбова в институте, первый обратил внимание на его выдающиеся способности, а затем и подружился с ним. Их сближение началось после того, как студент рассказал профессору о своих этнографических и лингвистических занятиях в Нижнем, о том, как он в семинарские годы собирал областные нижегородские поговорки и пословицы. Это заинтересовало Срезневского, он выразил желание познакомиться с работой студента, дал советы, как систематизировать его собрание. Вскоре Добролюбов представил три тетрадки, содержавшие около пятисот слов с объяснениями их значения. Все собрание состояло из двух тысяч слов, но большую их часть пришлось исключить после сличения с существующими словарями. После этого работа Добролюбова приобрела несомненный научный интерес, так как состояла из областных слов, не вошедших даже в академический словарь.
В первые месяцы петербургской жизни Добролюбов чувствовал себя просто счастливым. Его дни наполнились радостным трудом, разнообразными новыми впечатлениями. С громадной охотой, с воодушевлением погрузился он в науки, занялся серьезной работой, о которой всегда мечтал. Он с удовольствием пишет родным о своих занятиях: «Принялся вплотную за греческий язык, за немецкую словесность, за географию, с увлечением читаю латинских классиков». Из множества тем, предложенных для сочинения профессором Благовещенским, он выбрал одну из самых трудных — сравнение перевода «Энеиды», Вергилия с подлинником (от этой темы отказались даже студенты старших курсов). Работа над областным словарем для Срезневского тоже требовала немалой усидчивости. Если прибавить к этому занятия по всем другим предметам, вплоть до политической экономии и законоведения, необходимость изучать языки, древние и новые, то можно представить себе, насколько загружен был рабочий день студента, начинавшийся в шесть часов утра. Неудивительно, что многие новички не успевали справляться с уроками, роптали, жалуясь на полное отсутствие отдыха и свободного времени.
Но как ни много было учебных дел, как ни поглощен был ими Добролюбов, однако он успевал и бродить по улицам, любуясь видами величественного города, и бывать изредка в театре, и осматривать музеи и художественные выставки, и работать в Публичной библиотеке. Каким-то чудом у него хватало времени еще и на то, чтобы подробно описывать свои впечатления в длиннейших письмах, которые он часто писая родным и знакомым — настолько часто, что родителей даже тревожно его пристрастие к письмам и они не раз просили сына беречь свое время. Отец убеждал его: «Не пиши, дружочек, много и ко многим… Тебе время нужно более ка полезное».
Он не очень прислушивался к этим советам, зная, как интересует родных каждая мелочь. Его многочисленные письма этого времени почти все сохранились. На редкость обстоятельные, блещущие юмором, полные интересных подробностей, они как бы заменяют прерванный дневник и служат теперь для нас незаменимым источником сведений о Добролюбове в петербургские годы его жизни. К этому надо добавить, что самый процесс писания писем, судя по всему, нисколько его не затруднял. Уже тогда он писал настолько легко и быстро, речь его лилась так непринужденно, что вряд ли можно думать, будто на письма у него уходило много времени. Писать — это была его стихия, его призвание.
Некоторые земляки Добролюбова удивлялись, что он мало рассказывает в письмах о Петербурге, не делится своими впечатлениями; говорили, что он равнодушен к окружающему, и приписывали это черствости его характера. На самом же деле он проявлял живейший интерес к новой обстановке, которая его окружала, и пользовался каждой минутой, чтобы увидеть что-нибудь новое и интересное. «Я раз пятьдесят, по крайней мере, прошел насквозь весь Невский проспект, — читаем мы в одном из первых петербургских писем, — гулял по гранитной набережной, переходил висячие мосты, глазел на Исаакия, был в Летнем саду, в Казанском соборе, созерцал картины Тициана и Рубенса…»
С волнением осматривал Добролюбов коллекции Публичной библиотеки (раз в неделю читатели допускались в книгохранилище), вглядывался в старинные книги и пожелтевшие рукописи на всевозможных языках.
И, может быть, еще сильнее задели его душу сокровища Эрмитажа, где он в первый раз провел часа четыре, но не нагляделся вдоволь и решил прийти снова при первой же возможности. Восхищаясь картинами Брюллова, мадоннами Рафаэля, портретами Рубенса и Тициана, он писал: «Это дивные произведения, о которых никакого понятия не дает ни печатный эстамп, ни мертвая ученическая копия, каких несколько случалось нам видать в прежнее время».
Таковы были первые петербургские впечатления Добролюбова. Жадно впитывал он все, что могли ему дать культура и искусство русской столицы. Он страстно хотел все увидеть, все узнать, все понять. Это был год, когда он, напряженно работая над своим развитием, продолжал накапливать силы для будущего.
Прошло совсем немного времени, и Добролюбов начал понимать, что институт был далеко не так хорош, как ему показалось на первых порах. Мы уже знаем, что некоторые профессора сразу же разочаровали молодого студента. Вскоре он увидел и многое другое. Педагогический институт уже не был рассадником вольнодумства, и профессора его давно перестали упражняться в «расколах и безверьи», по поводу чего в грибоедовские времена негодовали князья Тугоуховские. Казарменные порядки, установленные в закрытом учебном заведении, угнетающим образом действовали на студентов. Суровый режим дня и расписание, которым они подчинялись, были составлены таким образом, что не могли способствовать успешности занятий. Вот как описывал свой день сам Добролюбов в письме к двоюродному брату Михаилу Ивановичу Благообразову:
«В 6 часов раздается пронзительный звонок, и я встаю. Одевшись и умывшись, иду в камеру и принимаюсь за дело (т. е. за уроки) до половины 9-го. В это время новый звонок, и все идем завтракать. На завтрак дается, обыкновенно, булка и кружка молока… Перед завтраком читаются утренние молитвы, дневные — Апостол и Евангелие. Потом в 9 часов начинаются лекции, каждая по полутора часа. В 12 часов приносят оловянное блюдо, нагруженное ломтями черного хлеба: это еще завтрак или полдник. Потом опять лекции продолжаются до 3 часов. До обеда обыкновенно бывают четыре лекции. В три часа обед, на котором бывает три блюда, а после обеда до 4-х с половиной мы можем и даже должны гулять по городу. В половине пятого еще лекция до 6 часов. В 6 часов пьем чай, свой, не казенный. В 8½ — ужин из двух кушаний. В 10 спать отправляемся, как вот и теперь, сейчас отправляюсь. Прощай, брат, спокойной ночи…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: