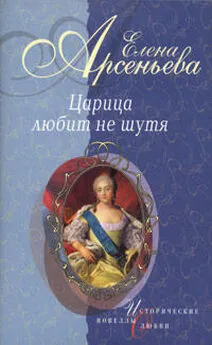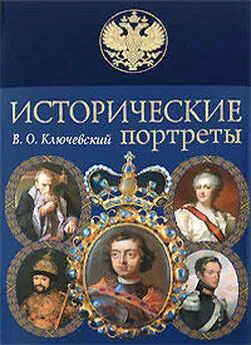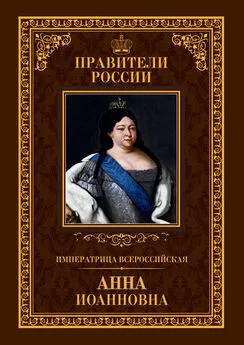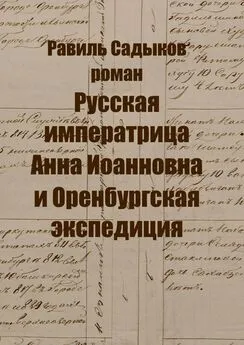Игорь Курукин - Анна Иоанновна
- Название:Анна Иоанновна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03752-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Курукин - Анна Иоанновна краткое содержание
В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.
Анна Иоанновна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Министр считал необходимым расширить состав Сената и повысить его роль за счёт перегруженного делами Кабинета министров, упразднить пост генерал-прокурора, «в гражданские чины вводить шляхетство учёных людей и в воеводы определять», последних же назначать «беспеременно», а не на один-два года, как практиковалось в те времена. В сфере «экономии» следовало бедные монастыри обратить в «сиротопитательные дома», сочинить «окладную книгу» (роспись доходов государства), сбалансировать бюджетные доходы и расходы, принять меры для «размножения фабрик и заводов», навести порядок в «таможенных и других сборах» путём борьбы с намеренным занижением декларируемых цен на ввозимые в Россию товары (конфисковывать их с выплатой владельцу этой низкой цены), запретить совместные торговые компании с иноземцами — возможно, чтобы помешать господству на внутреннем рынке крупных иностранных фирм под маркой фиктивных совместных торговых обществ {669} .
Мы не можем сейчас утверждать, что этот краткий обзор полностью отражает содержание всех семидесяти «пунктов» обширного сочинения. Однако имеющиеся в нашем распоряжении данные говорят, что Артемий Петрович был продолжателем именно петровской «генеральной линии». Расширение состава и полномочий Сената отвечало дворянским интересам, как и повышение образовательного уровня, и укрепление позиций шляхетства в администрации. Но при этом Артемий Петрович предлагал сократить офицерские вакансии в армии, использовать дворян на непопулярной службе в канцеляриях и ещё хуже — в приходских попах; советовал «поубоже платье носить». Неизбежным следствием увеличения пошлин стало бы повышение цен на престижные заморские товары. Заветной мечтой Волынского было учреждение и содержание «шляхетством» конных заводов, «чтоб в завод было со 100 душ по кобыле, и в зборе на всякой год было по лошади», что стало бы для «благородного сословия» дополнительной тяготой. Как истинный представитель древнего рода он напоминал дворянам о их высоком призвании и считал делом государственной важности составление родословных «всему российскому шляхетству по алфабету», чему положил пример изображением «картины» (генеалогического древа) своей фамилии.
В отличие от авторов дворянских проектов 1730 года, Волынский обходил проблему организации и прав верховной власти. Министр и прежде не сочувствовал её ограничению, а выступать с такими идеями в конце царствования Анны Иоанновны и подавно не собирался, тем более что собственных планов не таил и собирался представить своё сочинение «для докладу её величеству».
Предложения Артемия Петровича находились на столбовой дороге развития внутренней политики послепетровской монархии. Сократить армию безуспешно пытался ещё в 1725 году Верховный тайный совет; при Анне предпринимались попытки «одворянить» государственный аппарат (устройство дворян-«кадетов» при Сенате) и сбалансировать бюджет; позже, при Елизавете Петровне, была введена дворянская винная монополия и восстановлены магистраты. Словом, проект трудно назвать крамольным — даже сочинители злобного манифеста о казни Волынского ограничились голословными обвинениями, что намерения автора касались «до явного нарушения и укоризны издревле от предков наших блаженныя памяти великих государей и при благополучном нашем государствовании к пользе и доброму порядку верных наших подданных установленных государственных законов и порядков, к явному вреду государства нашего и отягощению подданных».
Чтобы удержаться у власти, Волынскому надо было, как Бирону, Остерману или Миниху, уяснить предел своих возможностей, понять круг обязанностей, которые делали бы его необходимым, и не посягать на чужой «огород». Но удалой министр своими амбициями насторожил всех. Выдвигаясь на первый план, он подрывал позиции не только Остермана, но и самого Бирона. К тому же у нетерпеливого Волынского не хватало умения приспосабливаться; он горячился, в раздражении мог сказать, что «резолюции от неё (императрицы. — И.К.) никакой не добьёшься, и ныне у нас герцог что захочет, то и делает». В Кабинете министров Остерман постоянно представлял возражения на резолюции и проекты указов, составленные Волынским, подчёркивая их недостатки.
Очевидно, Волынский осознавал, что справиться с двумя ключевыми фигурами ему не по силам. Поэтому он решил вначале сосредоточиться на Остермане. Волынский показал Бирону специально переведённую на немецкий язык копию письма императрице с объяснениями по поводу жалобы «отрешённых» за какие-то «плутовства» шталмейстера Кишкеля и унтер-шталмейстера Людвига, обвинявших его в «непорядках» на конных заводах. Министр оправдывался, что служит «без всякого порока», а в доказательство своей честности упомянул свои «несносные долги», из-за которых мог «себя подлинно нищим назвать». Но на этом он не остановился — стал обличать не названных по именам, но отлично угадываемых подстрекателей (Остермана и его окружение), стремившихся «приводить государей в сомнение, чтоб никому верить не изволили и все б подозрением огорчены были».
Сам ли Бирон заподозрил министра в стремлении играть самостоятельную роль или в этом поспособствовал, к примеру, Остерман, не столь уж важно. Главное, Волынский был уверен в поддержке со стороны герцога; на следствии он даже рассказал, что Бирон рекомендовал вручить письмо Анне. Но послание пришлось не ко двору. «Ты подаёшь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю», — выказала неудовольствие императрица.
Однако Волынский не унывал; дельный министр, бойкий придворный, краснобай, лошадник, охотник на редкость удачно вписывался в окружение Анны Иоанновны. Но именно этим он и был опасен Бирону, тем более что «забегал» ко двору императорской племянницы, где сам герцог потерпел поражение в попытке стать её свёкром. Приятель Волынского кабинет-секретарь императрицы Иван Эйхлер ещё летом 1739 года предостерегал: «Не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь». Предостережения не помогли — Волынский не скрывал радости от провала сватовства сына Би-рона к Анне Леопольдовне: при его удачном исходе иноземцы «чрез то владычествовали [бы] над рускими, и руские б де в покорении у них, иноземцов, были». Его не смущало, что брак мекленбургской принцессы и брауншвейгского принца трудно назвать победой русских. Вероятно, он рассчитывал на пост первого министра при младенце-императоре, родившемся от этого брака, и его неопытной матери, что было бы исключено, если бы принцесса породнилась с семейством Бирон. Брачные намерения герцога Волынский расценил как «годуновской пример».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: