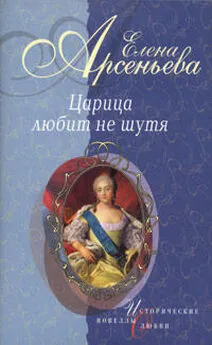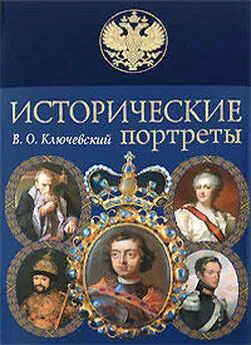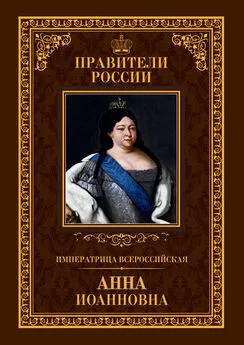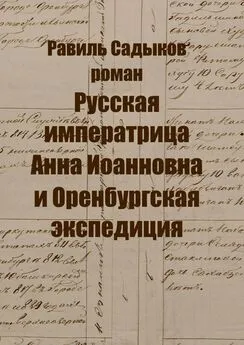Игорь Курукин - Анна Иоанновна
- Название:Анна Иоанновна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03752-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Курукин - Анна Иоанновна краткое содержание
В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.
Анна Иоанновна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ни «верховники», ни их оппоненты не поднимались до принципиальной постановки вопроса о происхождении монаршей власти и её пределах: первые этого не желали намеренно; вторые, скорее всего, в массе не были к этому готовы. В этом смысле не стоит переоценивать роль князя Д.М. Голицына в качестве «отца русской демократии».
Он был фигурой незаурядной — но вместе с тем типичной для Петровской эпохи. Как многие его сверстники, Голицын начал службу в гвардии; получал назначения на дипломатические, военные, финансовые посты. В качестве киевского губернатора он стремился урезать гетманскую власть, в качестве члена Верховного суда подписал приговор царевичу Алексею в 1718 году, а в 1723-м сам был лишён чинов по делу вице-канцлера Шафирова и прибегнул к заступничеству Екатерины. Он писал доносы на гетмана; но и на него в мае 1722 года дворецкий его брата-фельдмаршала заявил «слово и дело» (у князя якобы имелись «тайные царственные письма»). Характерно, что возглавляемая Голицыным комиссия по пересмотру налоговой системы не смогла предложить альтернативу петровской подушной подати {111} .
Английский резидент Клавдий Рондо отозвался о князе в феврале 1730 года: «Это человек духа деятельного, глубокопредусмотрительный, проницательный, разума основательного, превосходящий всех знанием русских законов и мужественным красноречием. Он обладает характером живым, предприимчивым; исполнен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но высокомерен, жесток и неумолим» {112} .
Это сочетание качеств помешало князю стать настоящим лидером, способным увлечь за собой других, в особенности тех, кого он превосходил по социальному или интеллектуальному уровню. С грустью отзывался о своём опыте делового знакомства с князем предприниматель и экономист-самоучка Иван Посошков: «На что добрее и разумнее господина князь Дмитрея Михайловича Голицына, а в прошлом 719 году подал я ему челобитную, чтоб мне завод построить винокурной и вотки взять на подряд, и, неведомо чево ради, велел меня за караул посадить. И я сидел целую неделю, и стало мне скушно быть, что сижу долго и за что сижу, не знаю… велел я уряднику доложить о себе, и он, князь Дмитрей Михайлович, сказал: “Давно ль де он под караулом сидит?” И урядник ему сказал: “Уж де он целую неделю сидит”. И тотчас велел меня выпустить. И я, кажетца, и не последней человек, и он, князь Дмитрей Михайлович, меня знает, а просидел целую неделю ни за что» {113} .
Похоже, что не столько аристократические традиции, сколько дух Петровских реформ — внедрение полезных новшеств вместе с отправкой несогласных «под караул» — затруднял князю возможность компромисса и лавирования как в политической теории, так и на практике… Члены совета съезжались, решали текущие дела, но так и не обнародовали никакой новой формы правления. Остерман «заболел» и уже с 19 января не показывался в совете.
Рядовые дворяне вельможам-министрам не доверяли. Среди бумаг казанского губернатора Артемия Петровича Волынского сохранились его размышления по поводу, «чтоб быть у нас республике». Казалось бы, более демократичное устройство должно было выглядеть привлекательным в глазах энергичного, но отодвинутого на периферию деятеля. Однако, признавался автор, «я зело в том сумнителен»; он видел в таком варианте не столько расширение своих дворянских прав, сколько опасность утверждения олигархии нескольких «сильных фамилий». Себя он среди этих особ не числил и выступал от лица шляхетства, которое в таком случае вынуждено будет «горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да ещё и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет, и так, один будет миловать, а другие на того злобствуя, вредить и губить станут».
«Средний» российский дворянин Артемий Волынский слегка прибеднялся — он весьма гордился своим древним происхождением и родством с московской династией. Но всё же надеялся не зря — именно самодержавная Анна простила ему административные прегрешения и возвела в высшие придворные и государственные должности (правда, она же и дала санкцию на арест и казнь своего министра в зените его карьеры).
Вынужденный с юности сам прокладывать себе дорогу, Волынский не был склонен идеализировать сплочённость и нравственные достоинства своего сословия: «Народ наш наполнен трусостью и похлебством, для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или и страха ради, — и так, хотя б и вольные всего общества голосы требованы в правлении дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно. А кто будет правду говорить, те пропадать станут, понеже уже все советы тайны быть не могут; к тому же главные для своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов (сторонников. — И.К.), и в чьей партии будет больше голосов, тот что захочет, то и станет делать, и кого захотят, того выводить станут; а бессильный, хотя бы и достойный был, всегда назади оставаться будет».
К примеру, размышлял Волынский, если начнётся война и потребуются чрезвычайные сборы, «то будет на главных всегда в доимках, а мы, средние, одни будем оставаться в платежах и во всех тягостях». Волынский признавал, что «в неволю служить зело тяжело», но освобождение от этого ярма считал ещё более опасным: «Ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и не трудолюбив; и для того, если некоторого принуждения не будет, то конечно, и такие, которые в своём доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своём доме»; в таком случае на службу пойдут «одни холопи и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и своей чести надлежащие места отдавать им; и таких на свою шею произведём и насажаем непотребных, от которых впредь самим нам места не будет; и весь воинский порядок у себя конечно потеряем».
Бывалый военный и администратор опасался, что отмена даже несовершенного порядка может обернуться губительным беспорядком, особенно в жёсткой военной иерархии. Если офицерские должности будут без разбора заполняться «солдатством», то «под властью таких командиров Боже сохрани: так испотворованы будут солдаты, что злее стрельцов будут. И как может команду содержать или от каких шалостей унять одному генералитету, если в полках не будет добрых офицеров!».
С другой стороны, предполагал он, освобождённые от службы беднейшие дворяне-рядовые не станут умелыми хозяевами, «большая часть разбоями и грабежами прибылей себе искать станут и воровские пристани у себя в домех держать будут; и для того хотя б и выпускать, однако ж, по моему мнению, разве с таким разсмотрением, чтоб за кем было 50, а по последней мере 30 дворов, да и то чтоб он несколько лет выслужил и молодые и шаткие свои лета пробыл под страхом, а не на своей воле прожил».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: