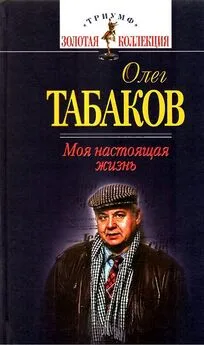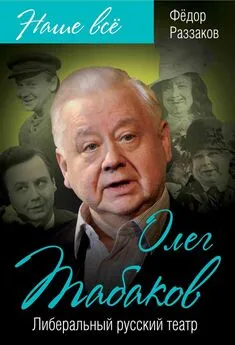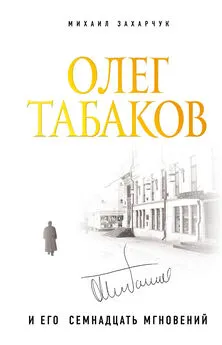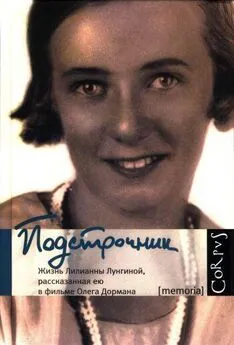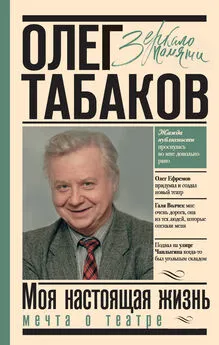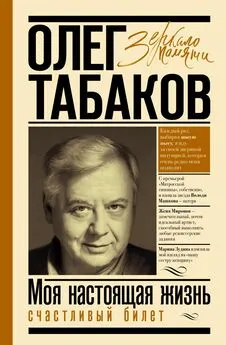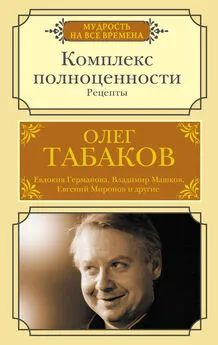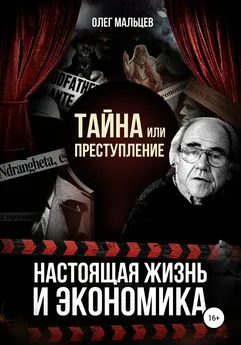Олег Табаков - Моя настоящая жизнь
- Название:Моя настоящая жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо-Пресс
- Год:2000
- ISBN:5-04-005401-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Табаков - Моя настоящая жизнь краткое содержание
«Моя настоящая жизнь» — автобиографическая проза Олега Табакова. О счастливом детстве в Саратове (несмотря на войну, потому что «все — любили»). О первых годах в Москве. О незабываемых встречах. О том, легендарном, «Современнике». О кино. О поездках. И конечно же, о «Табакерке»…
Моя настоящая жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Игорь Кваша очень смешно играл Первого министра. Смешно, но для меня понятно по сравнению с тем же Сергачевым. За исполнением роли Первого министра стоял социальный гнев исполнителя-гражданина, а за тем, что делал Сергачев, было правдоподобие невероятного — столь милая мне эстетическая категория, хотя термин этот я и придумал сам. Сцены, которые Кваша разыгрывал с Витей Сергачевым, были концертными. Они часто прерывались аплодисментами. Зрители изнемогали от того, что близких, дорогих нашему сердцу и ненавистных нам идиотов-начальников так секут публично. Просто было ощущение, что с каждого начальника, который приходил на этот спектакль, снимались штаны — и розгами, розгами… И все это было звонко, и смешно, и попы у них краснели под ликование народа, глядевшего на эту «казнь».
Все в этом спектакле было интересно: и Аллочка Покровская в роли самой молоденькой фрейлины, отплясывавшая с залихватским пением:
Дух военный не ослаб!
Умпа-парару-рару!
Нет солдат сильнее баб!
Умпа-ра-ра!
И Эмиль Исаакович Мэй, начинивший это пестрое зрелище вулканической энергией танца. А как смешно Ефремов вышагивал вдоль сцены, показывая, как надо играть Генерала! Мне казалось, что он преодолевал все расстояние в два прыжка на своих длиннющих ножищах!
Но душой спектакля был Евстигнеев. Материализованная тупость короля-руководителя, изрядно потрепанного жизнью, вполне лысого, составляла мощный ассоциативный ряд. Дело было не только и не столько в похожести Евстигнеева на Никиту Сергеевича Хрущева — он вовсе не был на него похож, а в том, что всякий забравшийся на вершину пирамиды власти в нашей стране был удивительно схож с Женей в этой роли. У Пастернака есть строки: «… я думал о переплетенья века связующих тягот…» Так вот Женька был соткан из тягот, которые надо было преодолевать королю: утром вставать, выслушивать этих идиотов, начиная с придворного Поэта и заканчивая Первым министром, потом, наконец, суметь организовать себя настолько, чтобы захотеть жениться… И еще многое, многое другое — королю постоянно надо было справляться с какими-то тяготами. Король Евстигнеева был памятником российской глупости. Боже мой, как туго он соображал! Мне иногда казалось, что я слышу, как скрипят валики его воспроизводящего механизма под черепной коробкой. С глупостью и тупостью соседствовали лукавство и хитрость, а также свойственная российской ментальности надежда на «авось»: «Авось и пронесет, а может, и получится». Евстигнеев подтягивал себе нос, который в жизни у него был довольно длинен и производил впечатление «семитского происхождения», как бы сказали сотрудники рейхсканцлера Гитлера. Так вот, этот свой большой нос он подтягивал так крепко, что когда я слышу или читаю выражение «кувшинное рыло», я сразу вспоминаю Женю в роли короля или себя в роли Балалайкина, хотя, может быть, и нехорошо говорить себе самому комплименты. «Кувшинное рыло» производится только в России в оригинальном и чистом, неразбавленном виде, символизируя все негативное, что есть в российском характере.
Узнаваемость созданного Евстигнеевым образа была прозрачна до такой степени, что под конец спектакля смех в зале становился болезненным, распирающим людей изнутри, и было такое впечатление, что люди проглотили мыло и повсюду летали пузырьки… Нагромождение потрясающих Жениных находок действовало на меня так же неотразимо, как и женские прелести Нины Дорошиной.
Сам я играл сразу три роли в этом спектакле. Мой Дирижер был человеком с головой Бетховена — власы до плеч. Алкогольное отравление было не просто привычным состоянием его самочувствия, а еще и некоторой защитой, потому что жить в постоянном стрессе от ожидания, что тебя вот-вот заберут, да еще художнику, человеку, занимающемуся нервным творческим трудом, чрезвычайно трудно. Кроме парика, я еще придумал себе такой беленький узелок, который все время таскал с собой, и когда меня наконец забирали, я уходил, прихватив его с собой. Эта деталь вызывала удивительную приязнь и волнение зрительного зала, отвечавшего: «Это про нас. Мы жили так». Мне рассказывали, что у многих существовали такие «узелки»: у одних — рюкзаки, у других — безразмерные портфели из «ложного крокодила», как написал Аксенов в «Затоваренной бочкотаре».
Второй персонаж, Повар, находился все время у плиты и одновременно с этим постоянно вызывался на общественные работы, в частности, для того, чтобы принимать участие во всенародном ликовании по поводу выхода Короля на люди. От плиты — в холод, от плиты — в холод, и я подумал, что мой Повар — хронически простуженный человек, который должен чихать все время. (И очень я в этом чихании исхитрился, иногда даже в жизни пытаясь разрушить атмосферу серьезности или трагизма художественным исполнением «чихов». А потом уж и студентов своих учил чихать столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно.)
Все, без исключения, подданные Короля рекрутировались для выполнения подневольных рабских обязанностей: приветствовать, восторгаться, поддерживать, аплодировать, прославлять. Инспекцию готовности всех королевских служб проводил Первый министр: «Поэт готов? Готов! Ученый? Готов! Еда готова? Готова! Все! Давай!» И тогда на сцену выходил Король.
Третья моя маленькая роль — человек из народа, когда ребенок голосом Лены Миллиоти или Наташи Энке кричал: «Папа, а король-то голый!» — и тут начинался шабаш веселья революционного народа, который, честно говоря, был мне не очень симпатичен, и поэтому я всегда старался поскорее свалить со сцены. Таким был финал спектакля. Не то чтобы это была неправда… Но все дело в том, что я не коллективист по натуре, а, скорее, индивидуалист, и мне все коллективные действия — будь то радость или что-то еще — не по нутру…
«Третье желание»
А вскоре благодаря Евстигнееву в моей актерской судьбе свершился долгожданный поворот: все получили внятное подтверждение тому, что я — действительно комический артист. Зимой 1961 года вышел спектакль «Третье желание» по пьесе Братислава Блажека, которую поставил Женя, первый и последний раз шагнувший в режиссуру. Много позже он пришел в Школу-студию, учил студентов, ставил дипломные спектакли, но это уже было совсем по-другому.
Талант Евстигнеева был столь внятен и заражающ, что только на одно его присутствие уже невозможно было не отозваться и не стать хоть немножко искуснее.
Играли Миша Козаков, я, уже пришедший в театр Валя Никулин, Володя Паулус, Мила Иванова, Люся Крылова, Наташа Архангельская. Я был ассистент-режиссером у Жени. Каким? Да, наверное, никаким в этом спектакле. Будучи влюблен в Евстигнеева, я был готов в любом качестве быть рядом с ним на сцене, хоть чем-то ему помогая.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: