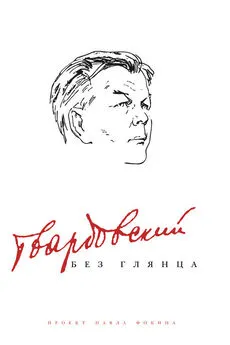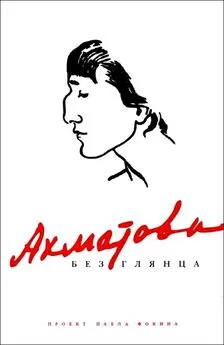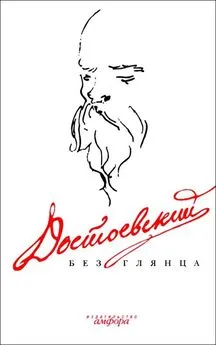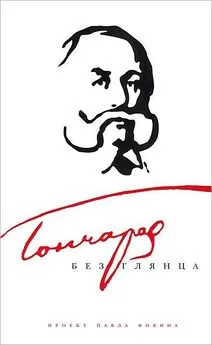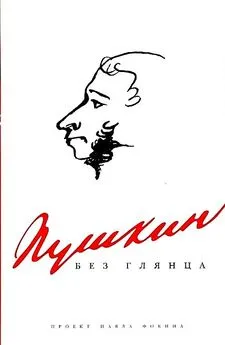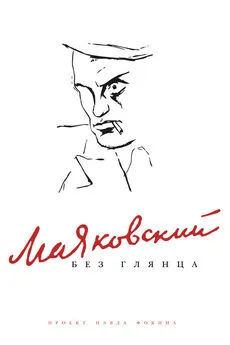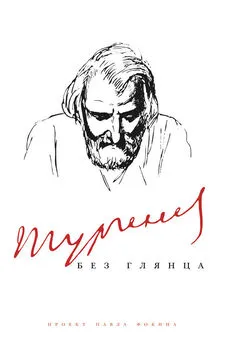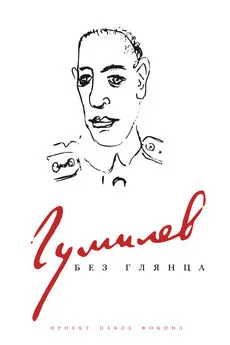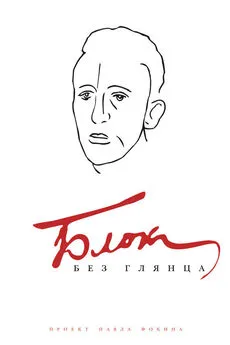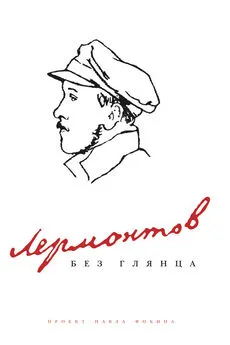Павел Фокин - Твардовский без глянца
- Название:Твардовский без глянца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2
- Год:2010
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-367-01473-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Фокин - Твардовский без глянца краткое содержание
Книга продолжает серию документально-биографических повествований о самых ярких русских писателях XIX–XX веков. Тщательно отобранные и скомпонованные цитаты из воспоминаний современников, а также из дневников и писем А. Т. Твардовского дают возможность увидеть сложную и богатую натуру поэта в разные периоды его биографии.
Твардовский без глянца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тяжело? Неохота? Еще бы нет. Но – надо. Пусть мне будет отказано, но я буду знать, что шел до конца. Иначе – изведет эта неопределенность положения, ожидание того-сего, неизвестно чего. ‹…›
27. XII.1968
Уже не только ясно, что встреча с Л[еонидом] И[льичом] не состоится, но я уже какой-то частью сознания и не хочу ее: она не могла бы привести к сколько-нибудь существенному результату. Надеяться на изменение отношения к Солженицыну – все равно что предполагать такую перемену в отношении Смрковского (председатель национального собрания Чехословакии. – Сост. ), который уже явно намечен к устранению. Впрочем, будь что будет, – я свое – сделал». [11, I; 190–198, 212–220, 251, 259]
Александр Исаевич Солженицын:
«Из сплетенья своих чиновных-депутатских-лауреатских десятилетий высвобождался Твардовский петлями своими, долгими, кружными. И прежде всего, естественно, силился он проделать этот путь на испытанной пахотной лошадке своей поэзии. В душные месяцы после чехословацкого подавления он писал сперва отдельные стихотворения – „На сеновале“, потом они стали расширяться в поэму – „По праву памяти“. В те самые весенние месяцы 69-го года он её дописывал, когда я не дозвался его читать „Архипелаг“. Бедняге, ему искренно казалось, что он важное новое слово говорит, прорывает пелену всеми недодуманного, приносит освобождение мысли не одному себе, но миллионам жаждущих читателей (уже давно шагнувших на километры вперёд!..). С большой любовью и надеждой он правил эту поэму уже в вёрстке, отвергнутой цензурой, и летом 1969 снова собирался подавать её куда-то наверх. (Судьба главного редактора! В своём журнале свою любимую поэму напечатать не имел права!) В июле подарил вёрстку мне и очень просил написать, как она мне. Я прочёл – и руки опустились, замкнулись уста: что я ему напишу? что скажу? Ну да, снова Сталин (все на нём замыкается?) и „сын за отца не отвечает“, а потом „и званье сын врага народа“,
И всё, казалось, не хватало
Стране клеймёных сыновей;
и – впервые за 30 лет! – о своём родном отце и о сыновней верности ему – ну! ну! ещё! ещё! – нет, не хватило напора, тут же и отвалился: что, ссылаемый в теплушке с кулаками, отец автора
Держался гордо, отчуждённо,
От тех, чью долю разделял…
…Среди врагов советской власти
Один, что славил эту власть.
И получилась личная семейная реабилитация, а 15 миллионов – сгиньте в тундру и тайгу? Со Сталиным Твардовский теперь уже не примирялся, но:
Всегда, казалось, рядом был…
Тот, кто оваций не любил…
Чей образ вечным и живым…
Кого учителем своим
Именовал Отец смиренно…
Как же и чем я мог на эту поэму отозваться? Для 1969 года, Александр Трифонович, – мало! слабо! робко!
Вообще, у Твардовского и возглавленной им редколлегии увеличенное было представление о том, насколько они – пульс передовой мысли, насколько они ведут и возглавляют общественную жизнь даже всей страны. (А движения истинного протеста и борьбы давно и бурно текли мимо.) В редакции все они друг друга так восполняли и убеждали, по нескольку человек по нескольку часов просиживая в комнате, что казалось им: они, члены редакционной коллегии, и есть движущий духовный центр, самозамкнутый во владении истиной, авторы же их – воспитуемые, от авторов не получишь светового толчка». [7; 232–233]
Наталия Павловна Бианки:
«‹…› Однажды мы получили письмо с вопросом: будет ли подписка на журнал, ведь он, возможно, прекратил уже свое существование? В некоторых областях подписка действительно была запрещена. Пятый номер 1968 года получился тоньше обычного (вместо 288 страниц в нем было 208). Июньская книжка опоздала на три месяца. А декабрьский номер 1968 года подписчики получили лишь в феврале 1969-го.
1969 год. Тучи сгущаются. ‹…› В ноябре из Союза писателей исключили Солженицына. И тут же пришло известие, что в „Посеве“ напечатана поэма Твардовского „По праву памяти“ под названием „Над прахом Сталина“. А ведь Твардовскому не забыли публикацию „Тёркина на том свете“ в 1963 году в „Известиях“ и в „Новом мире“ и отдельное издание поэмы в том же году…
Из февральского номера были сняты очерк Е. Дороша и стихи А. Т., вошедшие в поэму „По праву памяти“». [1; 53]
Юрий Валентинович Трифонов:
«Июнь шестьдесят девятого – это была, кажется, лучшая пора в последнем году Александра Трифоновича – редактора. Физически он был крепок, духом бодр, как видно, ему хорошо работалось. И все же давление страшного атмосферного столба, которое то увеличивалось до чугунной тяжести, то чуть отпускало и якобы даже исчезало – обманчиво – вовсе, чувствовалось над головой журнала постоянно. ‹…›
Помню, был разговор, от которого сжалось сердце. Очень хорошо помню: на моем участке, в саду, спустились со ступеньки с крыльца и шли к калитке. Он вдруг остановился и сказал тихо, с какой-то невыразимой, правдивой болью:
– А знаете, Юрий Валентинович, иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли все это? Ни послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу… Ведь, ей-богу же, и сам я кое-что еще могу написать, руки есть, голова есть… А вот силы кончаются… А потом подумаешь, сколько же людей ждут этот журнал, как праздник, как надежду какую-то! В захолустных городках, в деревнях подписываются, я же знаю… Обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: „Марковна, до самыя смерти!“ Она его спрашивала: „Долго ли муки сея, протопоп, будет?“
Окончилось это спокойное время начального лета поездкою Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову. ‹…› Я не знал, что он уехал. Сказала мне Мария Илларионовна, и как-то с опаской: „Боюсь, как бы он не сорвался…“ Да, видно, уж точно знала, обреченно предчувствовала: сорвется. Так и вышло. Случайно я был на шоссе, когда Александр Трифонович возвращался. Машина остановилась, дверца отхлопнулась, и Александр Трифонович кричал что-то, зовя меня. Я подошел. По веселому, очень красному лицу, громкому голосу, желанию вылезти зачем-то из машины, что сделать было трудно, все стало ясно. ‹…›
У Александра Трифоновича начался длительный период болезни, который окончился бедой: Александр Трифонович упал с лестницы в своем доме – лестница вела на второй этаж – сильно разбил голову, повредил шею и был увезен в Кунцевскую больницу. Случилось это, кажется, в августе. Между тем недели две или три, от поездки к Соколову-Микитову до падения с лестницы, Александр Трифонович находился в том состоянии, когда были невозможны ни работа, ни купания в реке, ни чтение. И, наверное, не было худа без добра: он не мог по-настоящему вникать в ту отвратительную кампанию клеветы и травли, которая развернулась тогда, летом, на страницах некоторых газет и журналов». [13; 24]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: