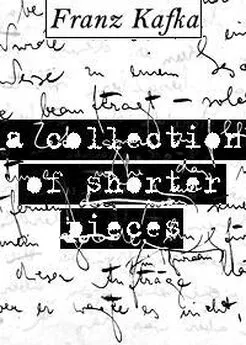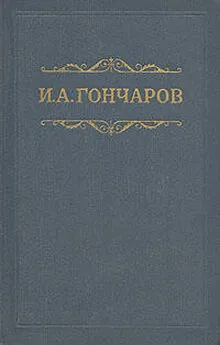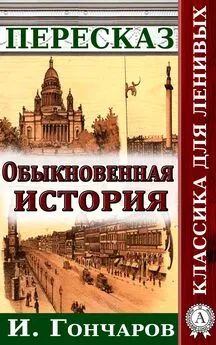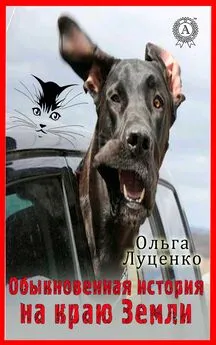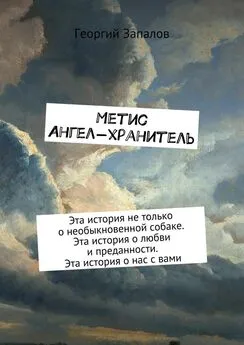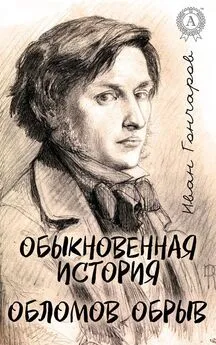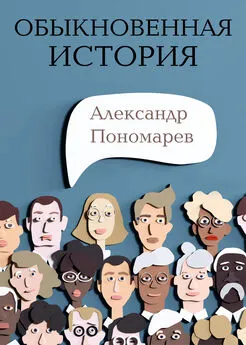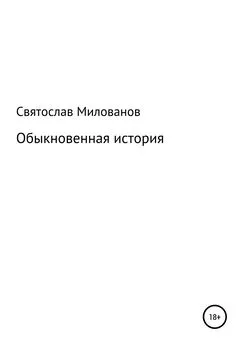Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране
- Название:Обыкновенная история в необыкновенной стране
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал «Нева»
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране краткое содержание
Обыкновенная история в необыкновенной стране - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Особое положение в партийной элите занимал КГБ: начальник Областного Управления КГБ шел сразу же за Первым секретарем, и секретарь даже побаивался чекиста, так как телефон у начальника с Алма-Атой тоже прямой, да еще и особый, и в аппарате секретаря посажены его информаторы. Кокчетавская область была местом ссылки политически неблагонадежных лиц, и в этих делах КГБ сам себе указ и вершит дела без указаний секретаря. Эта прерогатива давала право сотрудникам «органов» одеваться по-особому: например, зимой черные полушубки с каракулевой папахой и непременными белыми валенками, летом кожаные лакированные пальто или куртки. Войсковая же форма с погонами надевалась лишь в особых случаях, например, при встрече начальства из Алма-Аты. Сотрудники Управления внутренних дел и милиция считались уже рангом ниже: это «сторожа», их дело держать и не пускать, и в высокую политику им доступа нет. Это вызывало постоянный скрытый антагонизм между привилегированным КГБ и униженной милицией.
А что народ? Народ, как обычно, безмолвствовал, терпел: он был не только запуган политическими процессами над «антисоветскими элементами», которые все время проходили, но и раздроблен на чужеродные группы сибиряков, казахов, немцев, просто эвакуированных и политических ссыльных. Среди последних была также большая группа поляков, сосланных после раздела Польши в 1939 году, которая состояла из польской элиты: врачей, писателей, военных, членов сейма. Держались они очень изолированно, так как надеялись, что их освободят, и оказались правы: уже в 1943 году после начала формирования Польской освободительной армии в Иране под руководством генерала Андерса их почти всех туда перевезли. Почти всех… Конечно же, все эти группы были инфильтрированы людьми КГБ, и поэтому все друг друга боялись. Зловеще выглядело и само здание Главного Управления КГБ в центре города на базарной площади. Это был хотя и одноэтажный, но большой каменный дом, с прилегающими к нему внутренней тюрьмой, гаражом и другими вспомогательными зданиями.
Ссыльным можно было передвигаться только в пределах района, для поездок в другие районы нужно было разрешение. То и дело на базарной площади устраивались облавы, чтобы выловить незаконно прибывших в центр ссыльных из других районов. Если кто-либо окажется пойман трижды, то уже возможен суд по статье о «саботаже советской власти».
Итак, Кокчетав и его область представляли собой одну из «политических свалок» страны, где советская власть имела особые права. Если в Ленинграде я лишь по рассказам взрослых узнавал об этой власти, был лишь наблюдателем, то здесь я сразу же стал чувствовать на себе всю тяжесть рабского положения подвластных ей людей. Я чувствовал, что даже если мы по окончании войны и вернемся в родной город, это рабство будет продолжаться и там, всегда и везде и всю мою жизнь. От этой мысли все сжималось у меня внутри. В то время я уже был знаком с «Общественным договором» Жан Жака Руссо, «Духом законов» Монтескье, понимал, «что человек рожден свободным и только политическая система делает его рабом». Я по-новому уже вчитывался в сталинскую конституцию, где партия провозглашалась единственной руководящей силой в стране, а все статьи о демократических правах граждан звучали как наглая насмешка над действительностью.
Но что можно противопоставить этому насилию? Сопротивление отдельных личностей или групп, какими были декабристы или народовольцы, безуспешно. А может быть, прав анархист Бакунин:
«Если поднимется сам народ — тираны бессильны»?
Да, но кто такой этот самый народ? Разве он осознает, что он в рабстве?
По Гегелю получалось, что от самих людей это как бы не зависит. Демократия придет сама собой, если она должна прийти, ибо «все действительное разумно и все разумное действительно». Действительна ли советская власть? Ох, еще как! А может быть, «каждый народ достоин своего правительства»? Тогда всякая борьба бесполезна…
А вот К. Маркс в «18 брюмера Луи Бонапарта» призывает к действию:
«Только разбив старую государственную машину власти, на ее месте можно построить демократическую систему».
Даже при созревших политических и экономических условиях переход к новой формации может осуществиться только в результате политической борьбы. Значит, ждать нельзя, нужно действовать.
Большое влияние на меня оказывали рассказы взрослых о героической борьбе эсеров, заставивших дрожать от страха каждого царского чиновника, занимавшегося политическими преследованиями. Одна из маминых знакомых, Сперанская, была глазным врачом и рассказывала о том, как к ней обратился за помощью известный деятель русского анархизма князь Петр Кропоткин. «Я не знала, что это Кропоткин, но как только он вошел ко мне в кабинет, все предметы в комнате изменились: столь сильное излучение исходило от него». Я с восхищением читал его «Записки революционера». Эти люди были близки мне, хотя я понимал также, что социалисты-революционеры шли по очень узкому пути и не увидели опасность большевизма, наивно вступив с ним в союз уже после октябрьского переворота.
«Что делать?» — хоть и наивный, но вечный вопрос. Так неужели же я обречен жить до конца своих дней в этой системе насилия и беззакония, без всяких попыток освободить себя и других?
Когда я впервые увидел его, он показался мне болезненным юношей, столь бледно было его лицо, на котором четко вырисовывались большие миндалевидные глаза с покрасневшими веками. Это был Альберт Асейко (Беккер), человек, с которым оказалась трагически связана моя судьба. Он выглядел каким-то особенным, не похожим на других. Природные таланты и интеллигентность его сразу не бросались в глаза, хотя глаза светились умом. После ареста и расстрела его отца органами НКВД в 1938 году он с матерью был выслан из Ленинграда в Кокчетав, где они уже довольно основательно смогли обжиться, купив дом, в котором Альберт имел свою комнату, и обзаведясь коровой, ставшей большим материальным подспорьем. Здесь, в Кокчетаве, он знал все, каждую улицу и каждый двор. Его знания в физике и математике часто поражали меня, хотя он и не любил много говорить и был немного застенчив, так что иногда даже заикался. Но это не мешало ему быть смелым и решительным. Таких товарищей там, в Ленинграде, у меня еще не было. То были дети, этот — философ. Вскоре мы привязались друг к другу и часами бродили вместе по степи или сидели у него в комнате и говорили обо всем на свете. Эти разговоры никогда не были детской болтовней, они всегда проистекали из чего-то прочитанного, затрагивали острые вопросы нашей жизни. Правда, о политике мы вначале говорили мало, натурфилософия, а потом и просто философия нас интересовала больше. О чем бы мы ни начали говорить, он все уже читал: и Канта, и Гегеля, и Маркса, обо всем имел свое мнение. Спорили мы редко, так как, видимо, ценили взаимообогащение во время наших бесед. По своему складу он был реалистом или скорее прагматиком, художественная литература, этика, религия и история как-то не затрагивали его. Постепенно я узнал, что Альберт и его мама — прибалтийские немцы и настоящая фамилия его — Беккер. Общие судьбы наших родителей еще больше сближали нас. И естественно, что наши разговоры вскоре перешли к вопросам: «По какому праву нас всех здесь держат?» и, наконец: «Кто нами правит и кто нас угнетает?». И здесь больших расхождений во взглядах мы не нашли: советский режим нам обоим был до глубины души ненавистен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: